Под сердцем больше дюжины планет, и
на ставни давят Дантовы круги,
и близок путь взыскующий, задетый
звонком, и фраза, плавясь от строки
к строке, мне обжигает мозг, как глину:
хлеб горек, поле вдавлено в долину
по самую заботу, ниткой длинной
огни столиц вселенной, как с холма…
1963
«Как в облаке плывут стакан воды, замок…»
Как в облаке плывут стакан воды, замок,
дверь, кресло. Третий час. Звезда отлива скоро
отступит, отойдет, покинет мой порог,
чтобы на гостя пол, блеснув, не бросил взора.
Дым отягчит траву, между камней костра
шатнувшись, побледнев, и, отвязавшись, тронет
вдоль берега челнок, а птица так быстра
пребудет, что слова неверные обгонит.
Вернулся ли впотьмах лесничий мертвый в дом
и, спичек не найдя, по комнатам блуждает.
В небытии есть то, что выше нас, что, льдом
и музыкой зовясь, прибывшего встречает.
Поодаль хрустнет шаг, неведомый, ничей,
незримая рука соприкоснется с осью
Земли, и в тот же миг родится связь вещей,
пространство упразднив иль обесценив вовсе.
1969
«Опорою бессмертных душ предмет…»
Опорою бессмертных душ предмет,
за ним другой – в окне блистанье множат,
и неизвестно, что случиться может
у рек времен, которых, в общем, нет.
Увидим ли воочию, не знаем,
разлив пятнисто-рыжих вод вокруг,
когда мы соль и пепел разменяем
земные на нещедрый скарб разлук.
Уходит лето. Парус треугольный —
как бы замок на море навесной,
и волны дышат льдом, и зренью больно,
и воздух каменеет надо мной.
1969
«Мы сквозь чужие свиделись слова…»
Мы сквозь чужие свиделись слова,
разделены как будто бы стеною
прозрачной. А хозяину едва
жить оставалось месяц той зимою.
Кружится дух, как стрелка, и, кружась,
умаявшись от звукоряда ино-
бытийного, пласты сменяет в нас
родов, как повелела Мнемозина.
Не в силах нам помочь, зима назад
отходит тихо. Между городами,
надиром и зенитом, между нами
молчанье шелестит, как некий сад.
1970
«За стен квадраты, за квадрат…»
За стен квадраты, за квадрат
дверей, и за квадрат
окна, и дважды два подряд
за лампу в сорок ватт,
за страны, где нас нет, за взгляд
на карту, за разлад
под крышей дома, где темнят,
за ясный воздух над,
за паровозов белый чад,
за ключ и каземат,
за нас и дважды, и стократ,
и дважды два стократ,
за то, что знают провода,
за жизнь под толщей льда,
за то, что два плюс два – не два,
и дважды два – не два.
1961
«Холод сумерек встретил меня…»
Холод сумерек встретил меня.
Выйдя в город сквозь черные арки,
я увидел вокзалы огня
и за ними ноябрьские парки.
Эта местность с кирпичной стеной,
луч стоваттный, куда-то ведущий
и сбивающий с толку, в иной
мир, в его лабиринтовы кущи.
Ариадны и Миноса дом,
для жилья, пусть на время, пригодный,
обеззвученный аэродром,
погруженный в туман беспогодный.
Но, как прежде, полны поезда —
столько воздуха, горя и шири!
Так отбывший свой срок иногда
по конвою скучает в квартире.
Я увидел родные края —
те, что мне задолжало пространство.
«Остров, памятник, улица», – я
повторял, узнавая убранство
этих мест. «Я уеду чуть свет», —
говорил, и душа, на границе
пребывая с живыми, на нет
поспешала сойти и сродниться
с тьмой. Приблизились вновь адреса,
лабиринт, Ариадна и Минос,
исчезающие голоса
я ловил, но, не в силах найти нас,
был ни в запертом доме с ковром
и картинами, мне не родными,
ни в небесных хоромах, ни в дыме
дня, ни в Дантовом круге втором.
Так смиряют ход стрелок, точней —
с бытием расстаются не сразу,
только, я бы сказал, все длинней
расстоянье, не видное глазу,
до вчерашнего, – памяти круг,
ширясь, вытянет радиус, – только,
притворившись, что сделало крюк,
станет прошлое тем, что умолкло.
Что увидишь сквозь темный покров,
в этой яви, с собой разлученной?
Не разрушил поток берегов,
окантовки Коцита мощеной.
Что ни смерть, то отдельная весть.
Ты умрешь, но не стихнет звучанье
тех, кто жив. Все, что есть, все, что есть, —
девять муз. Девять муз и молчанье.
Там, где город кружится и снег
все бредет в переулок фонарный,
где укутан в туман человек, —
есть запас, слава Богу, словарный.
Там, где друг не успеет помочь,
в этой самой печальной невстрече, —
пустотой окрыляется ночь
и вседышащим ангелом речи.
Читать дальше






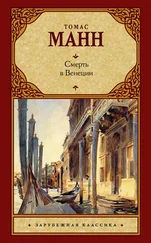


![Томас Рид - Одинокое ранчо [сборник]](/books/429145/tomas-rid-odinokoe-rancho-sbornik-thumb.webp)
![Томас Рид - Жилище в пустыне [сборник]](/books/429159/tomas-rid-zhiliche-v-pustyne-sbornik-thumb.webp)
