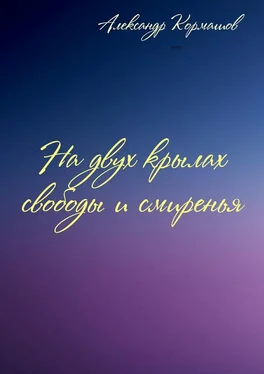В том поле просторном
качаясь (корова качалась поодаль),
познал я родство не родство, но
какую-то сцепку с природой.
Что нет меня чисто,
как чисто людей не бывает в природе,
и смерть убивает – бесчинство —
не насмерть, а только навроде.
Наверно, крамольней
не думал. Вернулся я, как из разведки,
к своим, где не ведают молний,
лишь пальцами лезут в розетки.
Корова Икона (белая морда с рыжей каймою),
что же ты вспомнилась, скажи на милость?
Сыто подойник гудел, «как перед войною»…
Икона, на тебя и вправду молились!
Твой белый лик был бабушкой зацелован.
Вымя твое светилось в хлеву, как Иисуса тельце.
Ты молоком поила даже свирепого зайцелова
кота Заломайко (уши заломаны в детстве).
Тебя бы по справедливости в красный угол,
а ты коченела всю зиму костлявою ряскорякой.
А по весне тяжело уходила от плуга,
а тот планету держал как якорь.
Говорят, что Будда в одном из своих превращений
сам на себе испробовал эту шкуру коровью,
оттого-то и нет у индусов
скотины священней.
Только и Русь к ней, корове,
с дочерней любовью.
За потраву чужого овса проткнутая жердью,
Икона лежала за гумном в крапиве
и молча мучалась перед смертью,
а обломок жерди качался в боку,
как бивень.
Не стало Иконы, мир стал для бабушки шаток.
Не молиться же на маслозавод-химеру!
Может, поэтому, когда ей перевалило
на восьмой десяток,
бабушка перешла в старую веру.
Заблудится солнце
в лохматых верхушках деревьев,
запрыгает белкой
по лапам размашистых сосен,
и будет то время —
мы снова вернёмся в деревню,
в простую и тихую, старую добрую осень.
Про просекам узким пройдём,
стороной полуголой,
по вырубкам, пашням,
оврагам, селеньям, угорам.
Дождь морды лосей
будет гладить рукой невеселой,
и камни у поля
застынут в раздумье нескором.
Нас город всё держит,
а осень уже на исходе.
И снег на рассвете
сырого коснётся.
А ночью мне снится:
нарушилось что-то в природе,
и, словно за белкой,
рванули собаки
за солнцем…
Сменяются времена года.
Но не в беломошном бору.
В нём ничто не меняется.
Он всегда в постоянстве неком.
Только лишь белый мох
– шкурой белого медведя на полу —
раз в году чистится белым, как сам он, снегом.
Мчатся лето, весна, зима – стороной.
Стороной осень – ликом иконописным.
Стороной прошли первобытно-общинный строй,
рабовладельческий, феодализмы, капитализмы…
И только время в бору стоит, как в графине вода,
и совершенно не зависит от своего далёкого
праначала.
Видимо, здешнее время вообще никогда
никаким таким свойством материи
себя не считало.
Поэтому тетерев в воздухе может встать,
как ветряк,
и долго стоять в раздумье – крылья провисли.
Поэтому телеграфными проводами
лежат на ветвях
следы прыгавшей с дерева на дерево рыси.
И сосны стоят, будто в каждую втиснут взрыв,
будто весь бор, по сути, мартиролог,
картотека,
где в хвою сосновую с помощью римских цифр
внесены данные на каждого
когда-либо жившего человека.
Просыпаюсь утрами, оттого что над ухом ручей
всё журчит и журчит.
Это вновь косачи, видит бог,
под латунные ножницы утренних первых лучей
тянут шеи блаженно, и падают головы в мох.
Их отвёрстые горла клокочут одно лишь
«чу-фыр-р…»
Я под песенку эту,
над речушкой болотной застыв,
выгребаю из чайника
плотный вчерашний чифирь,
он в воде превращается
в перевёрнутый ядерный взрыв.
А в глаза светит солнце,
светит так горячо и рыжо,
что не верится снова,
что снова какой-нибудь псих
(но не я уж сегодня),
спросонья схвативши ружьё,
побежит к косачам.
Только разве обманешь ты их!
Ну-ко кыш, лягушонок!
Не лезь-ка ты в чайник, малыш.
Есть в селе нашем женщина,
только вот не из села,
а из города, вот… Она тоже видала Париж,
как Высоцкий поёт.
А уж в Вологде век прожила.
Жаль, я в школе учил не французский,
а шпрехен зи дойч, и мне трудно найти с ней
какой-нибудь общий язык,
как находит его её пятилетняя дочь,
то есть дочка моя —
чтобы сразу вопрос не возник.
Читать дальше