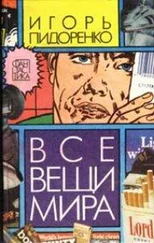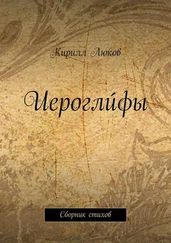* * *
Узловое время для этих стихов — 1920–1930-е годы: причастность к ним тех, кто живет и пишет сегодня, постоянно акцентируется. Это не только сама революция, но и послереволюционное состояние — призраки первых советских десятилетий, растворенные в московской топонимике: Москва Беньямина, пронизанная меланхолическими скитаниями, вдруг начинает проступать в Москве 2010-х, образ которой словно собирается из разных времен, превращая современную столицу в обещание встречи, революции, но в то же время в потерянное, отчужденное и захваченное режимными политиками пространство.
Поэзия здесь — это, прежде всего, способ работы с коллективной травмой, возникающей как следствие отчуждения от истории: чтобы вырваться из травматического круга повторения и «вечного возвращения», чтобы преодолеть тотальность травмы, нужно взять в руки осколки, «выпасть» во время, совладать с замкнутым пространством утраты. Соскальзывание в травму способно захватывать общества и субъекты, становиться причиной глубокой болезни под названием «фашизм», но можно пойти в противоположном направлении — размыкать, буквально «выпевать» травму.
2. Проблема «левой меланхолии»
Если история это то, где было что-то забыто, что-то оставлено, то будущее точно так же возможно только как разорванное, непредставимое. Таков меланхолический модус отношений со временем. В психоаналитической теории переживание меланхолии связано с утраченным объектом, однако он не просто утрачен где-то в неопределенном пространстве, а затерян в самом меланхолическом субъекте — затерян еще до наступления эдипальной стадии, то есть до овладения символическим, языком. Поэтому меланхолик словно лишен «полноценного» языка, позволившего бы «проговорить» травму, утрату. Меланхолик — это вечный ребенок, который не смог символизировать, поставить вне себя ближайшего Другого (например, мать), расстаться с ним, артикулировать его. Поэтому Другой поглощается меланхолическим субъектом, сливается с ним; он буквально утрачивает себя и оказывается затерян в нем. Так ХХ век оказывается затерян внутри себя, внутри исторической травмы — он лишен возможности артикулировать и символизировать свою утрату. Поэтому мы никогда не можем объективно отнестись к его истории, символизировать ее. Стихи Корчагина в том числе и об этом меланхолическом субъекте «долгого ХХ века», длящегося в нас, формирующего наше бесконечное настоящее, ловушку без будущего:
не шорох не мечтательный
отблеск один лишь глубокий
воздух в мраморных нишах
скользящие травы скользкие
звери ночи перед тобой
фильм фосфорический длится
после того как были мы все
сожжены заточенные в поле
горящей воды предатели и
побежденные смазанные
освещением в бесформенной
ночи днем неподвижным
ящерицы и тритоны и все кто
движется в такт кипящему
воздуху свету
Настоящее и есть тот фосфорический фильм , который длится уже после того, как мы исчезли, затерялись в «истории победителей». Настоящее этих стихов напоминает о некоем чувственном, меланхолическом порядке, который не может быть исключен из политики и истории, выброшен как «слабость» — напротив, он должен быть трансформирован в революционное ожидание или даже использован как топливо для грядущей революции.
* * *
Мы помним, что Беньямин критиковал «левую меланхолию» как мелкобуржуазное бездействие, свойственное современным ему социалистическим поэтам, не вызывал у него симпатии и меланхолический деспотизм барочных тиранов. Но существует «левая меланхолия» другого порядка — меланхолическое ви́дение истории, характерное для самого Беньямина, рожденного «под знаком Сатурна». В эссе с таким названием Сьюзен Зонтаг описывает Беньямина как меланхолика, видя в его «Берлинском детстве» исток всей будущей философии истории, внутри которой слабый, меланхолический субъект — это тот, кто тормозит время, срывает стоп-кран истории:
Он вызывает в памяти события как затравку будущей на них реакции, места — как след вложенных в них переживаний, других — как посредников при встрече с собой, чувства и поступки — в качестве отсылки на завтрашние страсти и таящиеся в них поражения [5] Зонтаг С. Под знаком Сатурна / Пер. с англ. Б. Дубина // Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960–1970-х годов. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 142.
.
В стихах Корчагина меланхолик блуждает в руинированных пространствах культуры, памяти, знания, в ландшафтах, разрушенных военными действиями, обнаруживает себя мертвым, просыпающимся в разрушенном авиаударами доме, залитым подземным светом. Меланхолия предстает здесь как фундаментальное состояние современной культуры — им заражены даже природные объекты, мельчайшие частицы света, земли, магма, растения. Но в то же время меланхолия обладает способность порождать новое — именно она основа любой метаморфозы, превращения. Еще у Аристотеля меланхолический темперамент описывается как способный к трансформации в любой другой тип органического и психического: благодаря преобладанию черной желчи у меланхолика чрезвычайно развито воображение и поэтому он способен перевоплощаться в Другого. Изначально в европейской культуре меланхолик — это трикстер, пораженный невыразимой печалью, которая и вызывает неотменимое желание выражать себя в искусстве, письме. Он живет под знаком утраты, постоянно пребывая в поисках нового языка на грани реального и символического — чтобы переступить через утрату или, если это окажется невозможным, пережить ее как скорбь [6] Механизм трансформации меланхолии в письмо подробно описывает Юлия Кристева в книге «Черное солнце. Депрессия и меланхолия». Письмо мыслится чуть ли не как единственный способ вынести меланхолическое состояние, позволить меланхолическому субъекту культуры выжить в утраченном времени ХХ века.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Кирилл Корчагин Все вещи мира [сборник] обложка книги](/books/34796/kirill-korchagin-vse-vechi-mira-sbornik-cover.webp)

![Кирилл Павлов - Импортный свидетель [Сборник]](/books/96281/kirill-pavlov-importnyj-svidetel-sbornik-thumb.webp)