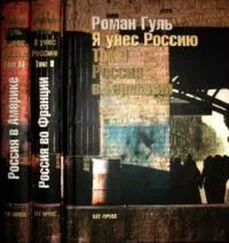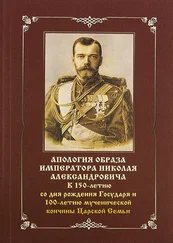II
Первый оратор, держащий соленые камни во рту,
перекатывающий медуз разбухшим языком,
созидатель стеклянных статуй в громокипящем саду,
сокрушающий их ряды чудовищным молотком,
меня преследует твой невменяемый громоздкий вид,
львиный рык и заросшая гривой кривая плоть,
под твоими лапами, пружиня, скрипит
корабельным канатом земная ось.
Раздвигающий плиты материков,
прилипающий кожей к промороженным полюсам,
самый старый и хищный из стариков,
глухо завидующий моложавым небесам,
над тобой кипит хрустальная взвесь —
арки радуг бессонных, о, мой бешенный старикан,
твой грохочущий бас — лучшая весть
о бесмертной жизни, океан.
21 апр. 87
III
Южная ночь, как вино «Южная ночь»
жаркий космос в чешуйках луны с чумной желтизной,
море заклеено лентой скотч,
побережье пахнет весной.
Гулькает галька, хрустит песок,
в створки индиговой мидии входит нож,
сердце стучит слева наискосок
и сосок подружки, как южная ночь, как южная ночь…
12 мая 87
Гранитно-чугунные сны о фонтанах зимой.
Эйфория высоких давлений воды.
В холода человека тянет домой.
Морозы рисуют ему ледяные цветы.
Он читает чужие слова весь день,
курит папиросы, видит треснувший потолок,
проплывает коммунальной рыбой вдоль стен,
телефон наелся звонков и умолк.
Серый свет, серый зернистый свет.
Вещи как лежали, так и лежат.
Одиночество — повод заснуть и умереть.
Город сжат зимой, как пружина — сжат.
Человек вмерзающий в пространственную спираль,
в ледяное железо населенных витков,
отдает по капле в бетонный Грааль
переулков и улиц стучащую кровь.
Одиночество: «Здравствуй, тикающая смерть секунд», —
— с ним нужно учиться жить, вообще уметь
прикоснуться своей рукой, как чужой, к виску,
чтобы шевельнуть волосы и отогнать смерть.
11 мая 87
Я буду детскую открытку
носить в советском пиджаке,
в американскую улитку
преображаясь вдалеке.
В немыслимой толпе Нью-Йорка
услышу — небоскреб шепнет
в ущелье улиц: «Бедный Йорик»
и череп мой перевернет.
3 сент. 87
Пространство к западу кончается —
оно приклеено к земле,
оно на столбиках качается
на проволоке и стекле
приборов пристальных оптических,
на дулах, выцеленных так
глазами зорких пограничников,
чтоб не свалить своих собак.
Пространство навзничь загибается,
скудеет метрами — пробел,
собачьи морды поднимаются,
чтоб охранять его предел.
Оно сквозит и тянет сыростью
травы и тайною ночной,
оно ребенком хочет вырасти,
чтобы увидеть шар земной.
20 февр. 88
Серо-зеленое небо,
окна глотают туман,
запах горячего хлеба
сонным еще домам
слышен из переулка,
где дымит хлебзавод,
каждая свежая булка
вымытых пальцев ждет.
Разорались вороны,
значит надо вставать —
вылезать из попоны,
чтобы травку щипать,
утро гонит трамваи,
сжалась в капли вода,
и Москва уплывает
от меня навсегда.
19 марта 88
Возле фабрики Бабаева
только вьюга да метель
с фонарями заговаривают,
пахнет смертью карамель.
Возле фабрики Бабаева
я скажу как на духу,
что пора туда отчаливать,
и ладонь согну в дугу.
Возле фабрики Бабаева
беспризорный вьется снег,
надо снова жизнь устраивать,
потому что жизни нет.
Канитель, пустая улица
да бродяга с кобурой,
да дома широкоскулые…
Мы домой пришли с тобой
через сквер на месте кладбища —
десять метров конура,
свет от марсианской лампочки,
да обоев кожура,
две лежанки, стул со столиком,
листья липнут на окно —
клены выпили покойников
и теперь от них темно.
Твоей бабушки-покойницы
вдовий мир на три шага —
нет теперь той синей комнаты,
кленов, дома — там снега…
Возле фабрики Бабаева
замыкается кружок,
наши жизни размыкаются,
вспоминай меня, дружок…
Ты купи конфетки сладкие,
подержи их на горсти,
а слова и рифмы жалкие
на дорогу мне прости.
Читать дальше