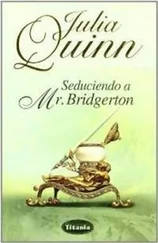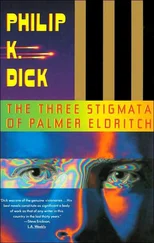«Nascentes morimur!» прочел на третьей взгляд...
Ее держал скелет оскаленный ребенка;
когда же взор отвел в смущенье я назад,
мне вдруг почудилось, что он хохочет звонко.
Но все сильней заря пылала, и в окне
плясал пылинок рой, решетки контур тонкий
яснел на каменной, заплесневшей стене;
я снова бросил взор на мертвеца немого,
и мысль безумная тогда предстала мне
(Хоть выразить ту мысль теперь бессильно слово!..)
В его чертах я вмиг узнал свои черты
и весь похолодел от вихря ледяного...
— «Чего дрожишь? Ведь мы — одно, и я, и ты!»
Казалось, говорил мне труп недвижным взглядом
и звал меня, презрев пугливые мечты,
на этот страшный стол возлечь с собою рядом.
Твой узаконенно-отверженный наряд —
туника узкая, не медленная стола,
струями строгими бегущая до пят,—
но ты надменный взгляд
роняешь холодно, как с высоты престола.
Весталка черная, в душе, в крови своей
зажегшая огни отверженной святыне,
пускай без белых лент струи твоих кудрей.
Не так ли в желтой тине,
киша. свивается клубок священных змей?
Когда ты возлежишь в носилках после пляски,
едва колышима, как на водах в челне,
небрежно развалясь, усталая от ласки,
вся — бред восточной сказки,
прекрасна ты и как понятна мне!
Прикрыв кокетливо смешной парик тиарой,
Цирцея. ты во всех прозрела лишь зверей:
раб, гладиатор, жрец, поэт. сенатор старый
стучатся у твоих дверей,
равно дыша твоей отравою и чарой.
Пусть ты отвергнута от алтарей Юноны,
пускай тебе смешон Паллады строгий лик,
пускай тебе друзья продажные леноны,
твой вздох, твой взор, твой крик
колеблет города и низвергает троны.
Но ты не молишься бесплодным небесам,
богам, воздвигнутым на каждом перекрестке!
Смотри, во всем тебе подобен Город сам:
свободу бросив псам,
как ты, он любит смерть и золотые блестки!
К меняле грязному упавшая на стол,
звезда, сверкай, гори, подобная алмазу,
струи вокруг себя смертельную заразу
патрицианских стол,
чтоб претворилась месть в священную проказу!
Венера общих бань, Киприда площадей,
Кибела римская, сирийская Изида,
ты выше всех колонн, прочней, чем пирамида;
богов, зверей, людей
равно к себе влечет и губит авлетрида!
Пускай с лобзания сбирает дань закон,
и пусть тебя досель не знают ценза списки,
ты жрица Города, где так же лживо-низки
объятия матрон,
и где уж взвешен скиптр, и где продажен трон!
Не все ль мы ждем конца? Не все ли мы устали —
диктатор и поэт, солдат и беглый раб —
от бесконечных тяжб и диких сатурналий?
На каждом пьедестале
из теста слепленный уж вознесен Приап!
Рабыня каждого, мстя каждому жестоко,
ты поражаешь плод во чреве матерей,
ты в язвы Запада вливаешь яд Востока,
служа у алтарей
безумья до конца, бесплодья и порока.
Но вот уж близится Креста Голгофы тень,
раба, ты первая падешь к Его подножью,
благоухающих кудрей роняя сень,
лобзая ногу Божью,
и станет первою последняя ступень!
(При переводе «Цветов зла» Ш. Бодлера)
В пасмурно-мглистой дали небосклона,
в бледной и пыльной пустыне небес,
вдруг, оросив истомленное лоно,
дождь возрастил экзотический лес.
Мертвое небо мечтой эфемерной
озолотила вечерняя страсть,
с стеблем свивается стебель безмерный
и разевает пурпурную пасть!
В небо простерлось из гнилости склепной
все, что кишело и тлело в золе,—
сад сверхъестественный, великолепный
призрачно вырос, качаясь во мгле.
Эти стволы, как военные башни,
все досягают до холода звезд,
мир повседневный, вчерашний, всегдашний
в страшном безмолвьи трепещет окрест.
Тянутся кактусы, вьются агавы,
щупальцы. хоботы ищут меня,
щурясь в лазурь, золотые удавы
вдруг пламенеют от вспышек огня.
Словно свой хаос извечно-подводный
в небо извергнул, ярясь, Океан,
все преступленья в лазури холодной
свив в золотые гирлянды лиан.
Но упиваясь игрой неизбежной,
я отвратил обезумевший лик.—
весь убегая в лазури безбрежной,
призрачный сад возрастал каждый миг.
И на меня, как живая химера,
в сердце вонзая магический глаз,
глянул вдруг лик исполинский Бодлера
и, опрокинут, как солнце, погас.
«Dies irae, dies ilia
Solvei saeculum in favilla
Tesles David ei Sibilla!»
День суда и воздаянья
в прах повергнет мирозданье.
Читать дальше