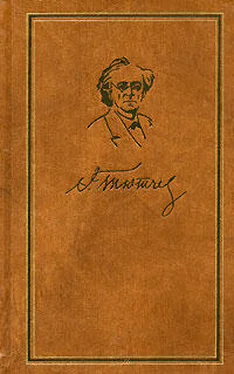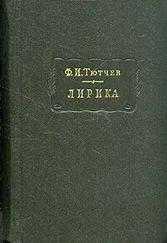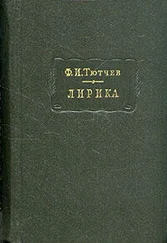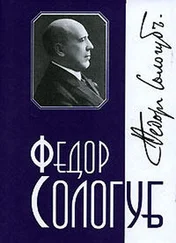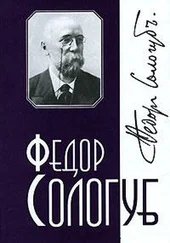И. С. Аксаков ( Биогр. С. 271) так воспроизвел отношение поэта к цензуре в России: «Тютчев, по его словам, относится совершенно беспристрастно, без предубеждения и неприязни, к вопросу о печати, «не питает даже чрезмерно враждебного чувства и к цензуре, хотя она, в эти последние годы, тяготела над Россией как истинное общественное бедствие»; но он главным образом обвиняет цензуру в том, что она нисколько не достигает цели в смысле истинных нужд и интересов нашего отечества» ( В. К. ).
«С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ…»
Автограф — неизвестен.
Первая публикация — Тютчевиана. С. 15. Повторно — Чулков II. С. 265. Позднее вошло без изменений во все основные издания.
Печатается по тексту первой публикации.
Обращено к Эрн. Ф. Тютчевой. Первый издатель текста ссылается на устное свидетельство К. В. Пигарева о том, что поздравительное четверостишие было выгравировано на серебряном салфеточном кольце в виде собачьего ошейника и преподнесено Эрн. Федоровне ее собакой Ромпом. Кольцо хранится в Собр. Пигарева. Авторство Тютчева подтверждено личными свидетельствами внуков поэта.
Датируется 1871 г. в соответствии с обозначенной на кольце датой: «1871» ( Тютчевиана. С. 16) ( Т. Ф. ).
«ВПРОСОНКАХ СЛЫШУ Я — И НЕ МОГУ…»
Автограф неизвестен.
Список — Мураново. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 45, в письме Д. Ф. Тютчевой к ее сестре Е. Ф. Тютчевой от 4 февраля 1871 г.
Первая публикация — Мурановский сборник. Вып. 1. 1928. С. 43.
Печатается по списку.
Датируется концом января — началом февраля 1871 г. согласно предшествующему стихам пояснению в письме: «Вот четверостишие, которое папа́ сочинил на днях, — он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала что-то маменьке».
Художественный мир четверостишия строится на резком диссонансе — сочетании несовместимых временных пластов, зимы и весны, имеющих у Тютчева глубокое философское наполнение. Этот прием, создающий некий иррациональный ход времени, соединен с одним из значительнейших мотивов у поэта — с мотивом сна, являющегося промежуточной, переходной стадией между бытием и небытием, между должным, подлинным и недолжным, призрачным бытием ( Ф. Т. ).
ЧЕРНОЕ МОРЕ
Автограф 3-й и 4-й строф — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 3, 4.
Списки — Альбом Тютчевой (л. 234–234 об.); М. Ф. Тютчевой-Бирилевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 159–162); ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 440. Л. 25–26.
Первая публикация — в брошюре «Стихотворения к живым картинам, данным в пользу Славянского Благотворительного Комитета 29 марта 1871 года». СПб., 1871. С. 43. Затем — литографированное издание «Поздравления <���князю А. М. Горчакову> по поводу циркуляра 19 октября 1870 г.», с. 122–125 (ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 149). Вошло в Изд. СПб., 1886. С. 345–347; Изд. 1900. С. 349–350.
Печатается по первой публикации. См. «Другие редакции и варианты». С. 313 * .
В автографе РГАЛИ перед четверостишиями стоят цифры (л. 3 — «3» и «4»; л. 4 — «3/»), обозначающие номер строфы. Соответственно, 3-я строфа записана в двух вариантах. На л. 3 об. имеется надпись «Его превосходительству Федору Ивановичу Тютчеву».
В Альбоме Тютчевой дата — 2 марта 1871 г., а в списках РГАЛИ (ед. хр. 52. Л. 159–162) и ГАРФ — 8 марта 1871 г. 9 марта 1871 г. было получено цензурное разрешение брошюры.
Датируется началом марта 1871 г. согласно спискам.
Поводом к написанию стала отмена статей Парижского мирного договора 1856 г., ограничивавшего права России на Черном море. См. коммент. к стих. «Да, вы сдержали ваше слово…». С. 588.
И. С. Аксаков, поясняя тютчевские слова, писал: «Он, по всему видно, пришел к убеждению, что решение великого Восточного вопроса отсрочено историею надолго, и что ни Европа еще не истощила всех жизненных сил своего духа, ни Россия еще не созрела для предназначенного ей, как думал Тютчев, призвания <���…> Но Тютчеву довелось дожить и до последнего эпилога Восточной войны. Луч лелеемого им будущего снова сверкнул для него в настоящем. Мы разумеем возвращение себе Россиею свободы на Черном море, т. е. ту декларацию, которою Русский кабинет, в конце 1870 г., возвестил Европе, что перестает считать для себя обязательными, в отношении к Черному морю, ограничения в правах, наложенные на Россию Парижским трактатом. Не мог не встрепенуться душою уже почти 70-летний, «не обманувшийся в своей вере» поэт, и отозвался двумя стихотворениями, которые, впрочем, нигде не были им напечатаны, а одно из них, согретое вполне искренним чувством, оставалось даже совсем неизвестным до самой его кончины» ( Биогр. С. 259–260; далее Аксаков приводит полностью текст «Черного моря»).
Читать дальше