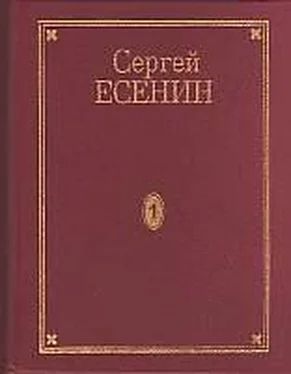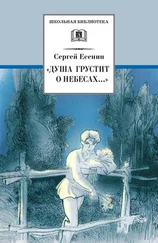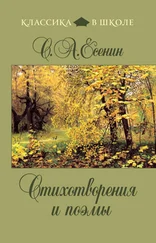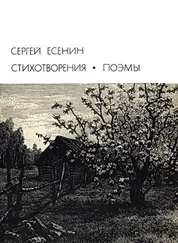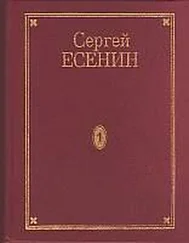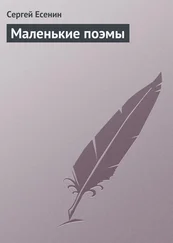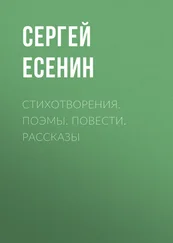«Недостаточность» приемов имажинизма, которая обнаружилась в драматической поэме, отметил также И. А. Груздев: «Диалог, даже претендующий на сценичность, требует гораздо более сложных форм, чем перманентная образность и привычные Есенину лирические приемы.
Вследствие этого стих развалился, механизировался и, например, лирическое повторение, к которому так охотно прибегал Есенин („Кружися, кружися, кружися, чекань своих дней серебро!“), в „Пугачове“ выглядит так: „ Оболяев . Что случилось? Что случилось? Что случилось? Пугачов . Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. “ Это звучит явной пародией» (журн. «Книга и революция», М. — Пг., 1923, № 3(27), с. 37. П. Жуков, соглашаясь с И. Груздевым, счел, что «Пугачев» «во многих случаях» «звучит бессознательно пародийно» (журн. «Зори», Пг., 1923, № 2, с. 11). Ср. факт, отмеченный в названной выше рецензии В. И. Лурье: «К повторению одних и тех же слов для усиления впечатления поэт прибегает на протяжении 60 страниц 56 раз»).
В связи с «опоэтизацией хулиганства» рассматривал «Пугачева» А. К. Воронский. В статье «Сергей Есенин», опубликованной в январском номере «Красной нови» за 1924 г., критик писал: «Пугачев приближен к нашей эпохе, он говорит и думает как имажинист, он очень похож на поэта. Марксизм давно уже дал надлежащую оценку нашей исторической пугачевщине, и напоминать ее здесь не имеет смысла. Но, конечно, теперешнее хулиганство Есенина имеет с подлинной пугачевщиной весьма отдаленное сходство. ‹…› От заповедных лесов правнук ушел, но к тому городу, за которым будущее, не пристал» (с. 283–284, см. также его кн. «Литературные типы», М, ‹1925›, с. 52–55).
Критики не сумели оценить органического соединения литературных и фольклорных перекличек, уходящих корнями в мифологическое прошлое и придающих неповторимый колорит есенинской трагедии (см. реальный коммент.). Некоторые авторы указывали на излишнюю усложненность и вычурность языка поэмы, где «„манера“ превращается в „манерность“» (журн. «Воля России», Прага, 1922, 25 марта, № 12, с. 20; подпись: Н. М. П.). В. Красильников нашел работу Есенина-имажиниста неудовлетворительной и охарактеризовал образы поэмы по их внутреннему значению как «ребус, задачу, головоломку для читателя». На Б. Анибала персонажи пьесы произвели «комическое впечатление», их диалоги он называл «кукольными». «Неприятно поражает, — продолжал рецензент, — убожество мыслей поэмы» (журн. «Вестник лит.», Пг., 1922, № 2–3 (38–39), с. 23). И. Соболев писал: «Пугачев» — это «многословие поверившего в свою гениальность графомана» (альм. «Возрождение», М., 1923, т. II, с. 367–368). А. И. Ромм назвал «Пугачева» «апогеем есенинского имажинизма» и заметил, что в погоне за образом поэт доходит «до таких плоских иносказаний: „Клещи рассвета в небесах // Из пасти темноты // Выдергивают звезды, точно зубы… “» (альм. «Чет и нечет», М., 1925, с. 36–37).
В рамках дискуссии об имажинистской образности «Пугачева» Иванов-Разумник поставил вопрос о модернизации и стилизации, нащупав тем самым одну из новаторских черт есенинской трагедии. Назвав «намеренно тяжеловесного „Емельяна“» «сильной, крепкой вещью», он писал: «В разбойных героев середины XVIII века вложены чувства, мысли, слова „имажиниста“ нашего времени, который сам о себе говорит: „такой разбойный я…“ Эта модернизация, эта стилизация — прямая противоположность приему бесчисленных ауслендеров: у них современность жеманится под историчность, здесь же историческое переносится в современность. „Емельян“ Есенина — наш современник, со всеми своими историческими соратниками живет он в наши дни, среди нас и в нас» («Летопись Дома литераторов», Пг., 1922, 1 февр., № 3 (7), с. 5; вырезка — Тетр. ГЛМ). В. П. Правдухин заметил, что от поэмы веет «в новых формах воскрешаемой ложноклассикой. ‹…› И эта ложноклассика — порой сильная, ядреная — напитывает собой и всю „поэму“» (журн. «Сибирские огни», Новониколаевск, 1922, май-июнь, № 2, с. 141). С. Радугин назвал язык «Пугачева» прекрасным, чуждым вычурности, но «непохожим на обыденную речь» (журн. «Зори Грядущего», Харьков, 1922, № 5, с. 176).
Вопрос о правомерности соединения в исторической поэме разных жанров народной поэзии и русской книжности поставил Н. Н. Асеев. Он отметил символику «природы, быта и чувств», построенную «по образу загадок и пословиц», и злоупотребление не переплавленным собственным творчеством книжным орнаментом «всяких „Триодей“ и „Цветников“» (ПиР, 1922, кн. 8, с. 39–40).
А. Б. Мариенгоф противопоставил своеобразную творческую манеру письма Есенина обычному «стилизаторскому курьезу». «Историческая вещь не будет стилизаторской, если идеологическая трактовка, психологическое движение, лирическое содержание и формальная манера будет выражать дух своего времени (тому пример италианский ренессанс, Новгородская иконопись XIV и XV века, Шекспир, „Пугачов“ Есенина, „Заговор Дураков“ автора настоящей статьи)». Как бы в ответ Н. Н. Асееву А. Б. Мариенгоф определил имажинистское понимание хода развития литературы: «От образного зерна первых слов через загадку, пословицу, через „Слово о полку Игореве“ и Державина к образу национальной революции» (в его статье «Корова и оранжерея» — журн. «Гостиница для путешествующих в прекрасном», М., 1922, № 1, нояб., ‹с. 7›).
Читать дальше