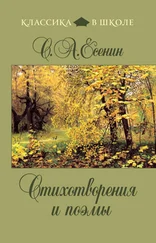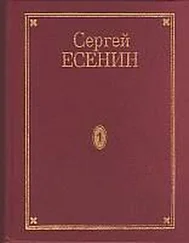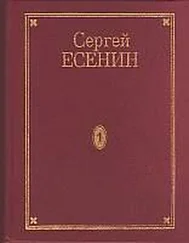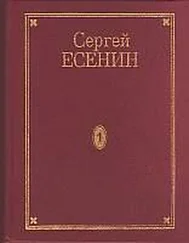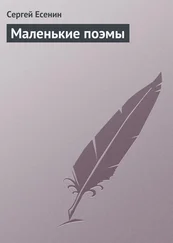В. П. Правдухин, определивший «произведение лишь как новый этап ‹…› исканий, признак перелома форм» творчества Есенина, отказал «Пугачеву» в историчности также на основании сочетания современных слов и анахронизмов в речи персонажей, обратив внимание на то, что «едва ли речушка Чаган могла слышать от Пугачева термин „пространство“» (журн. «Сибирские огни», Новониколаевск, 1922, май-июнь, № 2, с. 141). В. И. Лурье назвала слова Бурнова о керосиновой лампе «полным историческим абсурдом» (журн. «Сполохи», Берлин, 1922, нояб., № 13, с. 29). О «внеисторичности» этого образа, который А. Лежнев назвал «очаровательным анахронизмом „à la Шекспир“» (журн. «Вестник искусств», М., 1922, № 3–4, с. 19, см. также в статьях М. Первухина — «Рус. газ.», Париж, 1925, 17 мая, № 328 и И. А. Груздева — журн. «Книга и революция», М. — Пг., 1923, № 3 (27), с. 37).
Значительно реже появлялись отзывы, утверждавшие историзм произведения, причем и в этом случае — и с плюсом, и с минусом. Отражение генетического родства мировоззрения современного крестьянства и казаков второй половины XVIII в. увидели в «Пугачеве» такие разные авторы, как А. Б. Мариенгоф и Е. Ф. Никитина, ср. общность их высказываний о превращении есенинской Руси («Расеи») в Россию и бунтарства — в крестьянскую революцию. «„Пугачев“, — писала Е. Ф. Никитина, — заметное историко-литературное явление». Отметив две замечательные сцены (разговор предателей Пугачева и гибель Пугачева) и «внутреннюю правдивость пьесы-поэмы», она назвала «Пугачева» — поэмой наших дней, нашего «героизма и предательства» (альм. «Свиток», М., 1924, № 3, с. 152; см. также рец. А. Мариенгофа в журн. «Гостиница для путешествующих в прекрасном», М., 1922, № 1, нояб., ‹с. 29›; подпись: А. М.). Н. М. Тарабукин, напротив, утверждал: «Современность идет мимо него . ‹…›… и, как иные эклектики, ‹Есенин› оборачивается назад, в прошлое истории („Пугачев“) и там хочет найти те образы, которых ему не дает современность» (журн. «Горн», М., 1923, № 8, с. 225; вырезка — Тетр. ГЛМ).
Поэма «Пугачев» стала поводом к дискуссии об имажинизме (см. т. 7, кн. 1 наст. изд.) и художественной образности поэмы. Отдельные авторы утверждали, что Есенин имеет мало общего с имажинизмом Мариенгофа и Шершеневича (Н. Осинский) или отмечали «уход» «Пугачева» от имажинизма, «далекого от понимания глубин народной жизни» (С. Радугин). С. М. Городецкий считал: «Если имажинизм и принят Есениным, то, может быть, только как литературное развитие всегда стремившегося к изобразительности деревенского языка». А. Н. Рашковская в 1925 г. утверждала, что в группу имажинистов входили поэты, «совершенно чуждые по духу Есенину» (журн. «Вестник знания», М., 1925, № 13, стб. 888).
Значительная часть критиков, напротив, считала, что отделять Есенина от имажинизма нет оснований. «Пугачев» Есенина и «Заговор дураков» А. Мариенгофа уже в первых откликах воспринимались как «опыт приложения принципов имажинизма к драматургии» (Москвич. «Заговор дураков» — газ. «Новый мир», Берлин, 1921, 11 сент., № 188) и, как правило, на счет имажинизма относились все недостатки и парадоксы «образотворчества» двух поэтов. Независимо от общей положительной или отрицательной оценки «Пугачева» критики видели в нем «имажинистическую трясину» (Апушкин Я. В. — журн. «Экран», М., 1922, № 22, 21–28 февр., с. 10), «налет конфетного имажинизма» (П. С. Коган), «вычурный имажинизм» (Г-14 ‹Гринберг›— газ. «Коммуна», Самара, 1922, 16 июня, № 1049), а в главном герое Пугачеве — «оперного пейзана», «начитанного в имажинизме джентльмена», прошлым летом декламировавшего в «Стойле Пегаса» (Лежнев А. — журн. «Вестник искусств», М., 1922, № 3–4, с. 19; вырезка — Тетр. ГЛМ; см. также рубрику «Театр и искусство» — газ. «Курьер», Владивосток, 1921, 3 дек., № 54; Лебедев Н. «Поэтические школы» — газ. «Новый путь», Рига, 1922, 1 янв., № 1; Адашев К. — журн. «Художественная мысль», Харьков, 1922, 18–25 марта, № 5, с. 13–14; Н. М. П. ‹подпись› — газ. «Воля России», Прага, 1922, 25 марта, № 12, с. 20; Соснин Б. — журн. «Вулкан», Пг., 1922, № 2, дек., с. 27.
Е. И. Шамурин отнес слабость поэмы за счет того, что есенинский Пугачев и другие действующие лица «имажинизированы» и «испорчены». Признавая «большое дарование» Есенина, которое чувствуется в «Пугачеве», как и в других вещах поэта, критик делал вывод, что «только окончательный разрыв с „художественными приемами“ бездарного Мариенгофа и Шершеневича спасет поэта, прекратит это нелепое, систематическое если не самоубийство, то самоуродование художника» (журн. «Культура и жизнь», М., 1922, 1-15 марта, № 2/3, с. 75–76). Еще более уничтожающую оценку поэме дал Л. Д. Троцкий в статье, опубликованной под названием «Вне-октябрьская литература: Литературные попутчики революции» (об ошибочности заголовка см. Материалы, 426; т. 5 наст. изд., с. 396) на страницах газеты «Правда» (1922, 5 окт., № 224; вошла в его кн. «Литература и революция», М., 1923, с. 48–50, то же — 2-е изд., 1924, с. 52–53). Он назвал Есенина поэтом, «от которого все-таки попахивает средневековьем», и охарактеризовал попытку Есенина построить имажинистским методом крупное произведение — «несостоятельной». «Диалогический характер „Пугачева“, — писал Троцкий, — жестоко подвел поэта. ‹…› Емелька Пугачев, его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты. А сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин: хочет быть страшным, но не может. Есенинский Пугачев сантиментальный романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда же Пугачев изъясняется, как отягощенный образами романтик, то это хуже. Имажинистский Пугачев немножко смехотворен… ‹…› Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин еще впереди».
Читать дальше