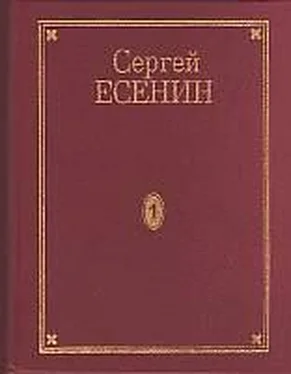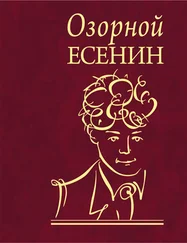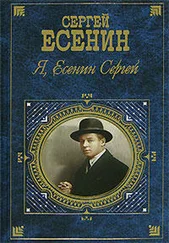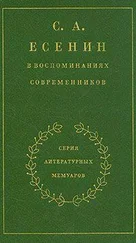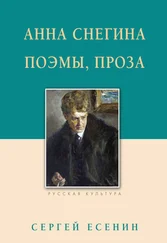Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.
Разёпа — разиня.
* Родимец — падучая младенцев, воспаление мозга с корчами; пострел, паралич.
Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.
Свивальник — длинная, узкая полоса из материи, которой обвивают младенца поверх пеленок.
* Свитка — верхняя широкая долгая одежда с клиньями по талии. Упомянута в стихотворении Есенина «Белая свитка и алый кушак…», 1915 г.
Сиверга (сиверка) — холодная мокрая погода при северном ветре.
* Сиволапый — неуклюжий, грубый мужчина.
Скрябка — железная лопата.
Скуфья — головной убор церковнослужителей.
** Суровика — лесная ягода; смола хвойного дерева.
Сушило — настил из жердей под крышей двора, где хранится корм для скота, сеновал.
Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.
Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают головы в особо горестные дни — дни похорон и поминания близких людей.
Тяж — ремень или веревка, идущая от переднего конца оглобли к передней оси.
** Ушук — шорох.
Хамлет — хам.
Хрестец (крестец) — убранный хлеб подсчитывается копнами и крестцами. В копне пятьдесят два снопа, в крестце — тринадцать. В полях хлеб укладывается по двенадцать снопов крест-накрест и накрывается сверху тринадцатым. Отсюда и название крестец.
Хруп — жесткий, крупный помол муки.
* Хруптеть — ср. хрупаться и хрупнуть, хрептеть — издавать хруст, хрустеть, хрястнуть, треснуть.
Хрындучить — ерепениться, куражиться.
Цыбицы — чибисы.
** Чапыга (чапыжник) — частый кустарник, непроходимая чаща; куст Caragana frutikosa.
Чередом — по порядку или добром.
Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и широкими листьями.
Чичер — резкий холодный ветер.
Чухонец — петербургское название пригородных финнов.
Шалыган — шалун, бездельник.
Шкворень — болт, на котором ходит передок телеги.
Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.
** Шушпан — летняя женская верхняя одежда.
Щипульник — шиповник.
Ярка — молодая неягнившаяся овца.
У белой воды (с. 146). — Бирж. вед., 1916, № 15753, 21 августа (3 сентября), с. 2.
Печатается и датируется по газетной публикации.
Автограф неизвестен.
Работу над рассказом можно отнести предположительно к июню 1915 г., судя по письму Есенина к В. С. Чернявскому из с. Константиново от июня 1915 г. и по письмам Л. И. Каннегисера к Есенину от 21 июня из г. Брянска и от 15 августа и 11 сентября 1915 г. из Петрограда (см. комментарий к «Яру», с. 337–339.).
Рассказ остался не замеченным критикой.
В заглавии рассказа усматривается топоним, родственный обозначениям хутора и леса Белый Яр и луга Белоборка в окрестностях с. Константиново. Возможно, в связи с этим во всех книжных публикациях рассказа слово «белый» печаталось с прописной буквы как в заглавии, так и в самом тексте. В настоящем издании (как и в предыдущих, посмертных собраниях сочинений) восстановлены допущенные по вине наборщика пропуски во втором абзаце: «…смотрела то в ту ‹сторону, где,›чернея, торчали камни на выветренном ме‹сте, то› на молочное небо».
Название произведения ассоциируется с Беловодьем — легендарно-утопической страной свободы из русских народных преданий XVII–XIX вв.; по мнению старообрядцев, размещалась где-то на Востоке — в Японии, Индии — и имела реальным прообразом Бухтарминский край на Алтае; с 1870-х по 1920-е годы существовала Беловодская иерархия, нашедшая сторонников среди поповцев Сибири и Прикамья. Есенин интересовался старообрядчеством и мог узнать о Беловодье из книжных и устных источников. Н. А. Клюев, с которым Есенин лично познакомился несколькими месяцами позже создания рассказа, но задолго до его публикации, упомянет о Беловодье в Письме к В. С. Миролюбову в начале марта 1918 г.: «Тоска моя об Опоньском Царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждет меня мой Царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Сережой…» (Письма, 317).
Белый цвет — символ духовной чистоты, высокой нравственности и непогрешимости в христианстве и цвет траура в крестьянской среде. По народному мировоззрению, за водным пространством находится иной мир, царство смерти. Белый как положительно-оценочный эпитет в применении к родине встречается в письме Н. А. Клюева к Есенину от 6 сентября 1915 г.: «Я пробуду в Петрограде до 20 сентября — хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение — моих военных песен и твоей Белой прекрасной Руси» (т. е. поэмы «Русь». — Письма, 209).
Читать дальше