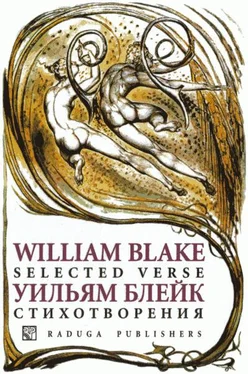And thine is a face of sweet love in despair,
And thine is a face of mild sorrow and care,
And thine is a face of wild terror and fear
That shall never be quiet till laid on its bier.
Прекрасная Мэри впервые пришла
На праздник меж первых красавиц села.
Нашла она много друзей и подруг,
И вот что о ней говорили вокруг:
«Неужели к нам ангел спустился с небес
Или век золотой в наше время воскрес?
Свет небесных лучей затмевает она.
Приоткроет уста — наступает весна».
Мэри движется тихо в сиянье своей
Красоты, от которой и всем веселей.
И, стыдливо краснея, сама сознает,
Что прекрасное стоит любви и забот.
Утром люди проснулись и вспомнили ночь,
И веселье продлить они были не прочь.
Мэри так же беспечно на праздник пришла,
Но друзей она больше в толпе не нашла.
Кто сказал, что прекрасная Мэри горда,
Кто добавил, что Мэри не знает стыда.
Будто ветер сырой налетел и унес
Лепестки распустившихся лилий и роз.
«О, зачем я красивой на свет рождена?
Почему не похожа на всех я одна?
Почему, одарив мейя щедрой рукой,
Небеса меня предали злобе людской?
— Будь смиренна, как агнец, как голубь, чиста, —
Таково, мне твердили, ученье Христа.
Если ж зависть рождаешь ты в душах у всех
Красотою своей — на тебе этот грех!
Я не буду красивой, сменю свой наряд,
Мой румянец поблекнет, померкнет мой взгляд.
Если ж кто предпочтет меня милой своей,
Я отвергну любовь и пошлю его к ней».
Мэри скромно оделась и вышла чуть свет.
«Сумасшедшая!» — крикнул мальчишка вослед.
Мэри скромный, но чистый надела наряд,
А вернулась забрызгана грязью до пят.
Вся дрожа, опустилась она на кровать,
И всю ночь не могла она слезы унять,
Позабыла про ночь, не заметила дня,
В чуткой памяти злобные взгляды храня.
Лица, полные ярости, злобы слепой,
Перед ней проносились, как дьяволов рой.
Ты не видела, Мэри, луча доброты.
Темной злобы не знала одна только ты.
Ты же — образ любви, изнемогшей в слезах,
Нежный образ ребенка, узнавшего страх,
Образ тихой печали, тоски роковой,
Что проводят тебя до доски гробовой.
The Maiden caught me in the wild,
Where I was dancing merrily;
She put me into her Cabinet,
And lock'd me up with a golden key,
This Cabinet is form'd of gold
And pearl and crystal shining bright,
And within it opens into a world
And a little lovely moony night.
Another England there I saw,
Another London with its Tower,
Another Thames and other hills,
And another pleasant Surrey bower.
Another Maiden like herself,
Translucent, lovely, shining clear,
Threefold each in the other clos'd—
O, what a pleasant trembling fear!
O, what a smile! a threefold smile
Fill'd me, that like a flame I burn'd;
I bent to kiss the lovely Maid,
And found a threefold kiss return'd.
I strove to seize the inmost form
With ardour fierce and hands of flame,
But burst the Crystal Cabinet,
And like a weeping Babe became—
A weeping Babe upon the wild,
And weeping Woman pale reclin'd,
And in the outward air again
I fill'd with woes the passing wind.
Хрустальная шкатулка.
Перевод В. Топорова
Плясал я на пустом просторе,
Казалось, пляска весела;
Но Дева Юная поймала —
В свою шкатулку заперла.
Была хрустальною шкатулка,
Была жемчужной, золотой;
Нездешний мир в ней открывался
С нездешней Ночью и Луной.
Нездешней Англия предстала:
Нездешней Темзы берега,
Нездешний Тауэр и Лондон,
Нездешни милые луга.
И Дева деялась нездешней,
Сквозя сквозь самое себя.
Я видел: в ней была другая!
В той — третья, видел я, любя!
Я трепетал... О, Три Улыбки!
Пламеньев пылких три волны!
Я целовал их, и лобзанья
Трикраты мне возвращены!
Я к третьей, к тайной, к сокровенной
Длань пламесущую простер —
И сжег хрустальную шкатулку,
Младенцем пал в пустой простор.
И Женщина заголосила,
И я, Младенец, голосил,
И ветер пролетал по свету,
И ветер крики разносил.
'I die, I die!' the Mother said,
'My children die for lack of bread.
What more has the merciless tyrant said?'
The Monk sat down on the stony bed.
The blood red ran from the Grey Monk's side
His hands and feet were wounded wide,
His body bent, his arms and knees
Like to the roots of ancient trees.
His eye was dry; no tear could flow:
A hollow groan first spoke his woe.
He trembled and shudder'd upon the bed;
At length with a feeble cry he said:
'When God commanded this hand to write
In the studious hours of deep midnight,
He told me the writing I wrote should prove
The bane of all that on Earth I love.
Читать дальше