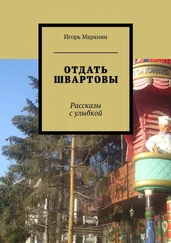…На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!
«Вот и город. Первая застава…»
Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.
Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.
Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, —
я смеяться снова научусь.
Ты великая, моя любовь

В. Тушнова. 1962 год.
«Сколько милых ровесников…»
Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок…
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть…
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму…
Только мне не солгать бы
ни в чем,
никогда,
никому!
«Насыпает камешки в ведерки…»
Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот…
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке…
Девочка меня не узнает.
Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад…
Вдруг она вгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»
Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора…
Для нее пока еще игра —
новый двор и мама в гимнастерке.
«Уходит день. В углах синее тени…»
Уходит день. В углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени,
карабкается девочка моя.
Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!
В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.
У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочалу,
голубое желе медуз.
А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.
И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.
Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести…
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты…
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков…
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы…
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица…
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
– Поглядите, мой дом в саду! —
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник…
(А она говорила – сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой…
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

Кряхтели рамы, стекла звякали,
и все казалось мне:
вот-вот
уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.
Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,
дерево скрипучее
раскачивалось под окном.
Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.
А сна все нет.
И заманить ничем нельзя его.
И долго мешкает рассвет.
От окон тянет острым холодом,
и хорошо и страшно мне.
Все крепко спят.
И с грозным городом
я остаюсь наедине.
Наш утлый дом по ветру носится,
раскачивается сосна…
И до чего ж она мне по сердцу,
азербайджанская весна!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу