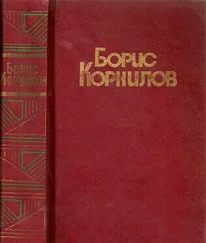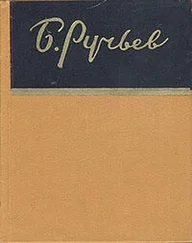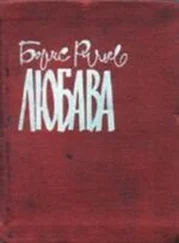Невидимый, невредимый,
силу тайную хранит
в сердце родины таимый
удивительный магнит.
Мне на свете нет покоя,
нет удачи, нет добра —
неотступною тоскою
извела Магнит-гора.
Дальним ветром, тихим зовом
все манит меня к себе,
будто сына дорогого,
непокорного судьбе.
Я не раз бывал измучен,
падал замертво в мороз,
на костре горел горючем,
не пролив и капли слез.
Но припомню город горный,
весь в огнях в вечерний час, —
хлынут с радости и с горя
слезы теплые из глаз.
Я увижу, как по тропам
росным утром, на заре
самым юным рудокопом
я пришел к Магнит-горе.
И, взрывая камень вечный,
день и ночь в земной грозе,
верных верностью сердечной
больше ста имел друзей.
Жил, довольный хлебом черным,
в праздник чай кирпичный пил,
вместо доброй и покорной
непокорную любил.
И желанной, нелюбимый,
пел я, строя город мой,
каждым камушком родимый,
каждой гайкою родной.
Если я умру без слова,
люди, будьте так добры,
отвезите гроб тесовый
до высот Магнит-горы.
Под утесом положите
и поставьте столб с доской:
«Похоронен старый житель
и строитель заводской».
Дождь польет могилу летом,
и на политом бугре
загорится горицветом
несгораемый багрец.
И воротятся живые,
старой дружбой мне верны,
сталевары, горновые —
бомбардирами с войны.
Над могильником багровым
снимут шапки в тишине,
задушевным тихим словом,
как живому, скажут мне:
— Спи, товарищ, ты недаром
ел на свете пироги,
нашей сталью в громе яром
насмерть скошены враги!..
И пойдут друзья спокойно
плавить горную руду,
как всегда, готовы к войнам,
к жизни, славе и труду.
Над моим усталым сердцем
пусть же, здравствуя, живет
всю планету громовержцем
потрясающий завод.
Как сердца, стучат машины,
сплав бушует огневой.
И да будут нерушимы
основания его.
Ибо в годы сотворенья
я вложил в них долей тонн —
камень личного граненья,
вечной крепости бетон.
1942
Поэт гипнотизирует внимание,
Когда читает нам свои стихи,
То шепотом, то криком, то молчанием
Затушевав огрехи и грехи.
А вот «с листа» увидишь обязательно —
Тут рифмы нет, там мысль не так остра...
Жизнь, как стихи, проста,
Когда внимательно
Ее анализируешь «с листа».
Лучше быть мне критикой отпетым,
чем дожить до экой срамоты:
клеить, выдавая за ракеты,
вирши, как бумажные цветы.
А потом вязать из тех изделий
мертвый, вроде веника, букет,
вот, мол, сколь моделей на неделе!
Страсти — в масти! Чем я не поэт!
Охрани цветки мои, эпоха,
от бурьяна и чертополоха!..
Это — вроде горького присловья,
притча не для нас, друзья мои.
Словом, налитым горячей кровью,
водит нас поэзия в бои
за цветы живые, как ракеты,
что сердцебиением согреты,
чтоб пришел скорей, как говорится,
ремеслу бумажному капут.
Есть еще в сердцах-пороховницах
порох тот, что чувствами зовут!
Есть еще закон у нашей власти:
в самую страстную из эпох
пустодел без совести и страсти
стоит то же, что чертополох.
Милые, друзья мои поэты!
Может, хватит этой чехарды:
вырезать бумажные ракеты
и кропать бумажные цветы?..
1965
В вечер, шелком закатным вышитый,
В листвяный тополей перезвон,
На крылечке, в узористом вишенье,
Серебристо гремел граммофон.
Улыбались окошки резные,
Распахнувшись стекольною сталью, —
И в улыбке истомной застыло
Над крылечком — «Изба-читальня».
Собрались все парни и девки,
Старики повалили плетень,
Граммофонной веселой запевкой
Провожать отзвеневший день.
Песня плавала вечером алым,
Целовалась с зарей без конца,
И с напевом приветно-удалым
Расплескалась волною в сердцах.
И до ночки угрюмой и темной
Расцветало крылечко маками —
Под веселый напев граммофонный
Хохотали, плясали и плакали.
1928
Покачнулася хата на взгорье
В камышовых ресницах озер,
Утром ясным вишневые зори
Вышивают на окнах узор.
Под горою серебряной плавью
Гладят волны озерный покров —
Хорошо этим утром мне плавать
Под налетами легких ветров.
Пляшет солнце лучистым загаром,
Льются степи узорным ковром,
Бьются волны расплавленной гарью
О борта отливным серебром.
Читать дальше