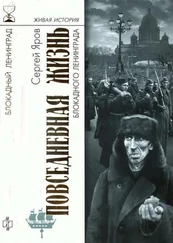Пускай все то же гордое терпенье
владеет нами ныне, как тогда,
когда свершаем подвиг возрожденья,
не отдохнув от ратного труда.
Мы знаем, умудренные войною:
жестоки раны — скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
не все людские души оживут.
Мы трудимся безмерно, кропотливо…
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля!
И верим: вновь
пути укажет миру
наш небывалый,
тяжкий,
дерзкий труд.
И к Сталинграду,
к Северной Пальмире
во множестве паломники придут.
Придут из мертвых городов Европы
по неостывшим, еле стихшим тропам,
придут, как в сказке, за живой водой,
чтоб снова землю сделать молодой.
Так выше, друг, торжественную чашу
за этот день,
за будущее наше,
за кровное народное родство,
за тех,
кто не забудет ничего…
27 января 1945
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Эта поэма написана по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады.
В дни наступленья армий ленинградских,
в январские свирепые морозы,
ко мне явилась девушка чужая
и попросила написать стихи…
Она пришла ко мне в тот самый вечер,
когда как раз два года исполнялось
со дня жестокой гибели твоей.
Она не знала этого, конечно.
Стараясь быть спокойной, строгой, взрослой,
она просила написать о брате,
три дня назад убитом в Дудергофе.
Он пал, Воронью гору атакуя,
ту высоту проклятую, откуда
два года вел фашист корректировку
всего артиллерийского огня.
Стараясь быть суровой, как большие,
она портрет из сумочки достала:
— Вот мальчик наш,
мой младший брат Володя…—
И я безмолвно ахнула: с портрета
глядели на меня твои глаза.
Не те, уже обугленные смертью,
не те, безумья полные и муки,
но те, которыми глядел мне в сердце
в дни юности, тринадцать лет назад.
Она не знала этого, конечно.
Она просила только — Напишите
не для того, чтобы его прославить,
но чтоб над ним могли чужие плакать
со мной и мамой — точно о родном…
Она, чужая девочка, не знала,
какое сердцу предложила бремя,—
ведь до сих пор еще за это время
я реквием тебе — тебе! — не написала…
Ты в двери мои постучала,
доверчивая и прямая.
Во имя народной печали
твой тяжкий заказ принимаю.
Позволь же правдиво и прямо,
своим неукрашенным словом
поведать сегодня
о самом
обычном,
простом и суровом…
Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, —
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.
Правдива грядущая гордая повесть:
она подтвердит, не прикрасив нимало, —
один поднимался, но был он — как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.
Не все имена поколенье запомнит.
Но в тот исступленный, клокочущий полдень
безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
поднялся — и цепи штурмующих поднял.
Он знал, что такое Воронья гора.
Он встал и шепнул, а не крикнул: — Пора!
Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,
он звал, и хрипел, и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся
и ахнул, увидев открывшийся город!
И, может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, —
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав.
Он падал лицом к Ленинграду.
Он падал,
а город стремительно мчался навстречу…
…Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.
И звезды мерцали, как в детстве, отрадно
над городом темным, уставшим от бедствий,
— Как тихо сегодня у нас в Ленинграде, —
сказала сестра и уснула, как в детстве.
«Как тихо», — подумала мать и вздохнула.
Так вольно давно никому не вздыхалось.
Но сердце, привыкшее к смертному гулу,
забытой земной тишины испугалось.
Читать дальше