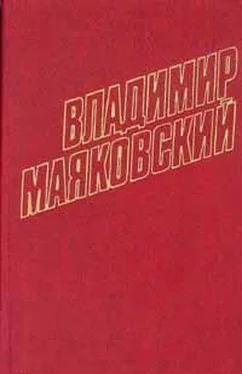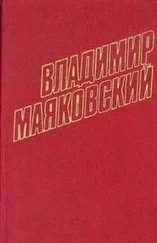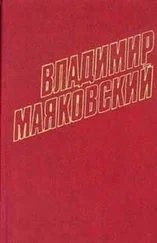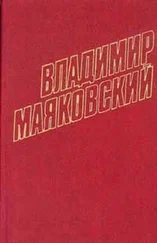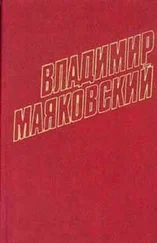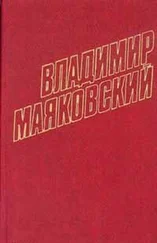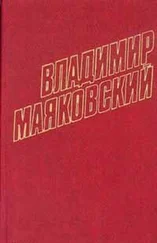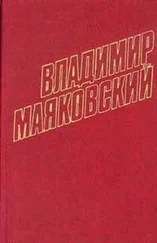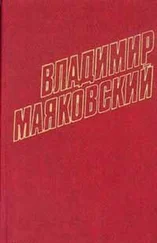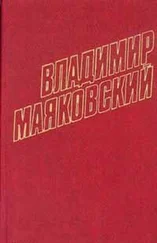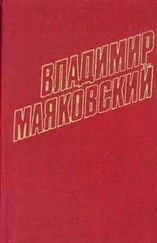[ 1923 ]
В Германии,
куда ни кинешься,
выжужживается
имя
Стиннеса * .
Разумеется,
не резцу
его обреза́ть,
недостаточно
ни букв,
ни линий ему.
Со Стиннеса
надо
писать образа.
Минимум.
Все —
и ряды городов
и сёл —
перед Стиннесом
падают
ниц.
Стиннес —
вроде
солнец.
Даже солнце тусклей
пялит
наземь
оба глаза
и золотозубый рот.
Солнце
шляется
по земным грязям,
Стиннес —
наоборот.
К нему
с земли подымаются лучики —
прибыли,
ренты *
и прочие получки.
Ни солнцу,
ни Стиннесу
страны насест,
наций узы:
«интернационалист» —
и немца съест
и француза.
Под ногами его
враг
разит врага.
Мертвые
падают —
рота на роте.
А у Стиннеса —
в Германии
одна
нога,
а другая —
напротив.
На Стиннесе
всё держится:
сила!
Это
даже
не громовержец —
громоверзила.
У Стиннеса
столько
частей тела,
что запомнить —
немыслимое дело.

Так,
вместо рта
у Стиннеса
рейхстаг * .
Ноги —
германские желдороги.
Без денег
карман —
болтается задарма,
да и много ли
снесешь
в кармане их?!
А Стиннеса
карман —
госбанк Германии.
У человеков
слабенькие голоса,
а у многих
и слабенького нет.
Голос
Стиннеса —
каждая полоса
тысячи
германских газет.
Даже думать —
и то
незачем ему:
все Шпенглеры * —
только
Стиннесов ум.
Глаза его —
божьего
глаза
ярче,
и в каждом
вместо зрачка —
долла́рчик.
У нас
для пищеварения
кишечки узкие,
невелика доблесть.
А у Стиннеса —
целая
Рурская
область.
У нас пальцы —
чтоб работой пылиться.
А у Стиннеса
пальцы —
вся полиция.
Оперение?
Из ничего умеет оперяться,
даже
из репараций.

А чтоб рабочие
не пробовали
вздеть уздечки,
у Стиннеса
даже
собственные эсдечики * .
Немецкие
эсдечики эти
кинутся
на всё в свете —
и на врага
и на друга,
на всё,
кроме собственности
Стиннеса
Гуго.
Растет он,
как солнце
вырастает в горах.
Над немцами
нависает
мало-помалу.
Золотом
в мешке
рубахи-крахмала.
Стоит он,
в самое небо всинясь.
Галстуком
мешок
завязан туго.
Таков
Стиннес
Гуго.
Примечание .
Не исчерпают
сиятельного
строки написанные —
целые
нужны бы
школы иконописные.
Надеюсь, *
скоро
это солнце
разрисуют саксонцы.
[ 1923 ]
Воскуря фимиам,
восторг воскрыля́,
не закрывая
отверзтого
в хвальбе рта, —
славьте
социалиста
его величества, короля *
Альберта!
Смотрите ж!
Какого черта лешего!
Какой
роскошнейший
открывается вид нам!
Видите,
видите его,
светлейшего?
Видите?
Не видно!
Не видно?
Это оттого,
что Вандервельде *
для глаза тяжел.
Окраска
глаза́
выжигает зноем.
Вандервельде
до того,
до того желт,
что просто
глаза слепит желтизною.
Вместо волоса
желтенький пушок стелется.
Желтые ботиночки,
желтые одежонки.
Под желтенькой кожицей
желтенькое тельце.
В карманчиках
желтые
антантины деньжонки.
Желтенькое сердечко,
желтенький ум.
Душонку
желтенькие чувства рассияли.
Только ушки
розоватые
после путешествия в Москву *
да пальчик
в чернилах —
подписывался в Версале * .
При взгляде
на дела его
и на него самого —
я, разумеется,
совсем не острю —
так и хочется
из Вандервельде
сделать самовар
или дюжинку
новеньких
медножелтых кастрюль.
Сделать бы —
и на полки
антантовских кухонь,
чтоб вечно
челядь
глазели глаза его,
чтоб, даже
когда
испустит дух он,
от Вандервельде
пользу видели хозяева.
Но пока еще
не положил он
за Антанту
живот,
пока
на самовар
не переделан Эмилий, —
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу