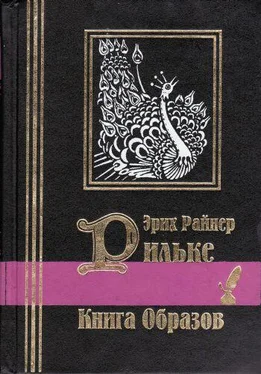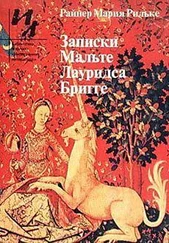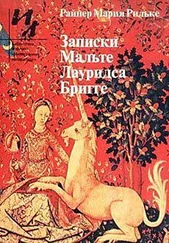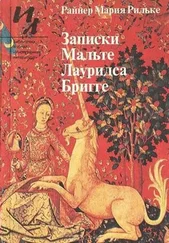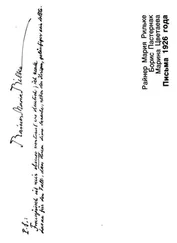Не нахожу тебя: в себе самом,
ни в камне, ни в тени маслин — ни в ком.
Я одинок, и ни души кругом.
Скорбящих утешал я, твой посол,
и ты меня и укреплял и вел,
ты — выдумка. О как мой крест тяжел!..
А после скажут: ангел снизошел.
При чем тут ангел? Нисходила ночь,
листву листая в густолистой кроне,
ученики ворочались спросонья.
При чем тут ангел? Нисходила ночь.
Подобна ста другим, что наступали
и уходили прочь.
В ней стыли камни, в ней собаки спали —
о смутная, о полная печали,
заждавшаяся утра ночь.
Нет, к себялюбцам ангел не слетает,
не станет ночь великой ради них.
Предавшие себя и всех — таких
не признают отцы и вырывают
в проклятьях матери из чрев своих.
Перевод В. Летучего
XIII. ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА
Как спичка, чиркнув, прежде чем огнем
заняться, точно в спешке безотчетной,
разбрасывает искры — так рывком,
как вспышку, в расступившихся кружком
она бросает танец искрометный.
И вдруг — он пламя с головы до пят.
Взметнула взгляд, и волосы горят,
рискованным искусством полоня,
и ввинчивает платье в глубь огня,
откуда, точно змеи, в дрожь бросая,
взмывают руки, дробный стук ссыпая.
Потом: огня как будто мало ей,
она бросает вниз его скорей
и свысока глядит с улыбкой властной,
как он простерся, все еще опасный,
и бешенства не прячет своего.
Но, победительно блестя очами,
она с улыбкой сладостной его
затаптывает в землю каблучками.
Перевод В. Летучего
XIII. ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА
Как факел, что и вспыхнул и потух,
когда огонь не хочет заниматься,
дразня своей игрой, так входит в круг
собравшихся и начинает вдруг
ее безумный танец разгораться.
И вот он в яркий пламень перерос.
И языки пылающих волос
кольцом огня зажгли ее наряд,
и весь он вихрем яростным объят,
и только руки, спугнутые змеи,
дрожат и извиваются, белея.
И, словно пламя стало ей невмочь,
она, его сорвав, швырнула прочь,
и властным жестом стихнуть повелела;
и пламя гневно на земле алело,
не покорясь. Она же, просияв
улыбкой победительницы гордой,
его убила, дерзко затоптав
своею ножкой, маленькой и твердой.
Перевод Т. Сильман
Ты видел ярость, видел драчунов,
когда клубком, что ненавистью звался,
они, рыча, катались по земле,
как зверь, настигнут роем пчел; актеров,
чей каждый жест подчеркнуто чрезмерен,
и павших лошадей, чей взор отброшен
и зубы скалятся, как будто череп
вдруг вылупился прямо изо рта.
Теперь ты знаешь, как забыть про все:
взгляни на чашу роз — на воплощенье
предельности бытийства и упадка,
отдачи без возможности отдаться,
отдельности, что хочет стать твоей:
предельностью тебя же самого.
Жизнь тишины и бесконечный взлет,
нужда в пространстве и пренебреженье
пространством, уменьшающим предметы,
почти без контуров, как без предела
все внутреннее — и душа и тело,
и освещающее самое себя:
нам что-нибудь знакомо так, как это?
Потом: что возникает чувство, если
касаются друг друга лепестки?
Потом: что открывается один,
как веко, а под ним — другие веки,
прикрытые в десятикратном сне,
смягчающем глубинные виденья.
Еще, и главное: сквозь лепестки
течь должен свет. Из тысячи небес
они процедят каплю темноты,
в чьем пламени курчавые тычинки
от возбуждения встают торчком.
Потом: движенье в розах — посмотри:
размах их жестов слишком мал для зренья,
кто б их заметил, если бы лучи
от них не разбегались по вселенной.
Смотри, как белая обнажена
и широко раскрылись лепестки —
Венера в раковине, не иначе;
и как алеющая, застыдившись,
к холодной наклонилась, и как та
бездушно отвернулась; как стоит,
холодная, закутавшись в себя,
среди все сбросивших с себя подруг
Как сброшенное и легко и тяжко,
оно как плащ, забота, бремя, крылья
и даже маска, — и все дело в том,
как сбрасывают: как перед любимым.
Чем только быть они не могут: разве
та, желтая, открытая, — не мякоть
сладчайшего плода, чья желтизна
пропитана вишнево-красным соком?
Не много ли — раскрыться для другой,
чьей безмятежный розовости впору
лиловый привкус горечи принять?
А та, батистовая, — чем не платье,
где теплое дыхание таится
с тех пор, как скинули его в лесной
прохладе утра, чтобы искупаться?
Читать дальше