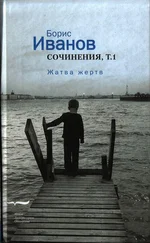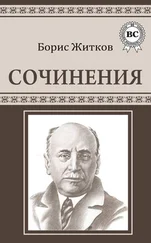Отступает поспешно большая стена
И подобно змее уползает она.
Но сей мир все ж, как палец в огромном кольце
Иль как круглая шляпа на подлеце.
Иль как дева что медленно входит и тонет,
Там где дерево горько вздыхает в хитоне.
Это было в тот вечер, в тот вечер.
Дома закипали как чайники.
Из окон рвалось клокотанье любви.
И «любовь не картошка»
И «твои обнаженные плечи»
Кружились в паническом вальсе,
Летали и пели как львы.
Но вот грохнул подъезд и залаял звонок.
Весна подымалась по лестнице молча.
И каждый вдруг вспомнил что он одинок.
Кричал, одинок! задыхаясь от желчи.
И в пении ночи и в реве утра,
В глухом клокотании вечера в парке,
Вставали умершие годы с одра
И одр несли как почтовые марки.
Качалась, как море асфальта, река.
Взлетали и падали лодки моторов,
Акулы трамваев завидев врага
Пускали фонтаны в ноздрю коридоров.
И было не страшно поднявшись на гребень
Нестись без оглядки на волнах толпы
И чувствовать гибель в малиновом небе
И сладкую слабость и слабости пыл.
В тот вечер, в тот вечер описанный в книгах
Нам было не страшно галдеть на ветру.
Строенья склонялись и полные краков
Валились, как свежеподкошенный труп
И полные счастья, хотя без науки.
Бил крыльями воздух в молочном окне
Туда, где простерши бессмертные руки
Кружилась весна как танцор на огне.
Надо мечтать! Восхищаться надо!
Надо сдаваться! Не надо жить!
Потому что блестит на луне колоннада,
Поют африканцы и пропеллер жужжит.
Подлетает к подъезду одер Дон-Кихота
И надушенный Санчо на красном осле.
И в ночи возникает, как стих, как икота:
Беспредметные скачки, парад и балет
Аплодируют руки оборванных мельниц
И торговки кричат голосами Мадонн,
И над крышами банков гарцует бездельник,
Пляшет вежливый Фауст, святой Купидон.
И опять на сутулом горбу лошадином
В лунной опере ночи он плачет, он спит.
А ко спящему тянутся руки Ундины,
Льются сине-сиреневых пальцев снопы.
На воздушных качелях, на реях, на нитках
Поднимается всадник, толстяк и лошак,
И бесстыдные сыплются с неба открытки
(А поэты кривятся во сне натощак).
Но чернильным ножом, косарем лиловатым,
Острый облак луне отрубает персты.
И сорвавшись, как клочья отравленной ваты
Скоморохи валятся через ложный пустырь.
И с размаху о лед ударяют копыта.
Останавливаются клячи дрожа.
Спит сиреневый полюс, волшебник открытый,
Лед бессмертный, блестящий как белый пиджак.
В отвратительной неге прозрачные скалы
Фиолетово тают под ложным лучом,
А во льду спят замерзшие девы акулы,
Шелковисто сияя покатым плечом.
И остряк путешественник, в позе не гибкой,
С неподвижным секстантом в руке голубой,
Сузив мертвый зрачок, смотрит в небо с улыбкой
Будто Северный Крест он увидел впервой.
И на белом снегу, как на мягком диване,
Лег герой приключений, расселся денщик,
И казалось ему, что он в мраморной ванне
А кругом орхидеи и Африки шик.
А над спящим все небо гудело и выло,
Загорались огни, полз прожектора сноп,
Там летел дирижабль, чье блестящее рыло
Равнодушно вертел чисто выбритый сноб.
И смотрели прекрасные дамы сквозь окна
Как бежит по равнине овальная тень,
Хохотали моторы, грохотали монокли,
И вставал над пустыней промышленный день.
1926
«Отрицательный полюс молчит и сияет…»
Отрицательный полюс молчит и сияет.
Он ни с кем не тягается, он океан.
Спит мертвец в восхитительном синем покое,
Возвращенный судьбой в абсолютную ночь.
С головой опрокинутой к черному небу,
С неподвижным оскалом размытых зубов.
Он уже не мечтает о странах где не был,
В неподвижном стекле абсолютно паря.
На такой глубине умирает теченье
И слова заглухают от нее вдалеке.
На такой глубине мы кончаем ученье,
Боевую повинность и матросскую жизнь.
Запевает машина в электрической башне
И огромным снопом вылетает огонь
И с огромными ртами, оглохшие люди
Наклоняются к счастью совместно с судном.
Читать дальше