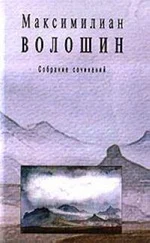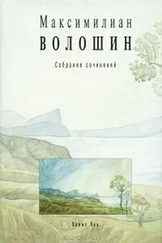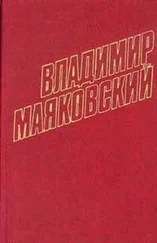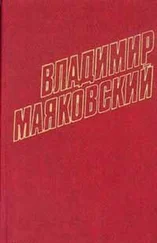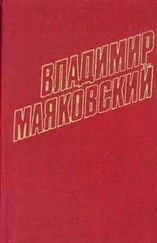Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того …
Того, что должен был свершить.
Май-июль 1921
Из «Записки о двенадцати»
…в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ошущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги или друзья моей поэмы.
Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря, — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики.
Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда.
1 апреля 1920
Переводы из Гейне, редактированные А. Блоком
«Глаза мне ночь покрыла…»
Глаза мне ночь покрыла,
Рот придавил свинец,
В гробу с остывшим сердцем
Лежал я, как мертвец.
Как долго, я не знаю,
Проспал я так, но вдруг
Проснулся я и слышу:
В мой гроб раздался стук.
«Ты хочешь встать, мой Генрих?
День вечный засиял,
Все мертвые воскресли,
Век радости настал».
Любовь моя, не в силах,
Горючая слеза
Давно уж ослепила,
Выжгла мои глаза.
«Хочу я с глаз, мой Генрих,
Лобзаньем ночь прогнать;
И ангелов, и небо
Ты должен увидать».
Любовь моя, не в силах,
Струится кровь рекой,
Ты сердце уколола
Мне словом, как иглой.
«Тихонько сердце, Генрих,
Рукой закрыть позволь;
И кровь не будет литься,
Утихнет сразу боль».
Любовь моя, не в силах,
Пробит насквозь висок;
Стрелял в него я, знаешь,
Когда украл тебя рок.
«Я локонами, Генрих,
Висок могу зажать,
И кровь уйдет обратно,
И будешь здоров опять».
Так сладостно просила,
Не мог я устоять;
Хотел навстречу милой
Подняться я и встать.
Тогда раскрылись раны,
Рванулся из груди
Поток бурлящей крови,
И я воскрес — гляди!
«Жил был король суровый…»
Жил был король суровый,
Старик седой, угрюм душой;
И жил король суровый
С женою молодой.
И жил был паж веселый,
Кудряв, и юн, и смел душой;
Носил он шлейф тяжелый
За юной госпожой.
Ты помнишь эту песню?
Она грустна, она светла!
Они погибли вместе,
Любовь обоих сожгла.
Аббат Вальдгэма тяжело
Вздохнул, смущенный вестью,
Что саксов вождь — король Гарольд —
При Гастингсе пал с честью.
И двух монахов послал аббат, —
Их Асгот и Айльрик звали, —
Чтоб тотчас на Гастингс шли они
И прах короля отыскали.
Монахи пустились печально в путь,
Печально домой воротились:
«Отец преподобный, постыла нам жизнь
Со счастием мы простились.
Из саксов лучший пал в бою,
И Банкерт смеется, негодный;
Отребье норманнское делит страну,
В раба обратился свободный.
И стали лордами у нас
Норманны — вшивые воры.
Я видел, портной из Байе гарцовал,
Надев золоченые шпоры.
О, горе нам и тем святым,
Что в небе наша опора!
Пускай трепещут и они,
И им не уйти от позора.
Читать дальше