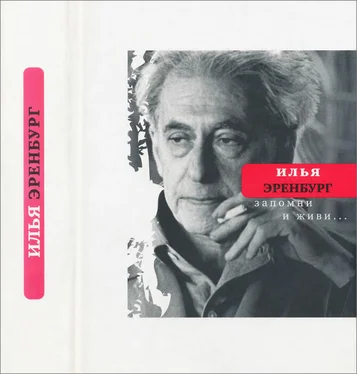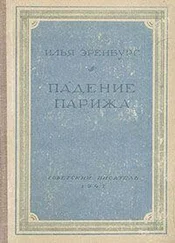1920
России («Смердишь, распухла с голоду…»)
Смердишь, распухла с голоду, сочится кровь и гной из ран отверстых,
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.
Россия, твой родильный бред они сочли за смертный,
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.
Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.
Кто древнее наследие возьмет?
Кто разожжет и дальше понесет
Полупогасший факел Прометея?
Суровы роды, час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.
Уверуйте! Его из наших рук примите!
Он наш и ваш — сотрет он все межи.
Забытая, в полунощной столице,
Под саваном снегов таилась жизнь.
На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозд ы —
Гонители к тебе придут, Отчизна,
Целуя на снегу кровавые следы.
1920
«Бунтом не зовите годы высокой работы…»
Бунтом не зовите годы высокой работы.
Мы первые исполнили веления судьбы.
И не мятежники — смиренные рабы,
Кровью скрепившие пирамиды Хеопса.
Нет свободы, ее разлюбили люди,
Свобода — сон, а ныне день труда.
Себя взнуздав, несемся в грозные года,
Топчем могилы отцов, рощи священные рубим.
Имя свое забудь, в ночь распахни свое сердце!
Был человек, а ныне тьмы кишат.
Пред каждым устьем воды неслиянные спешат
В море слиться новой безликой веры.
Братья, мужайтесь, славьте выпавший жребий!
Мы камень раздробим, другой построит дом.
Пусть наша кровь останется на нем —
Розы зари в черном безрадостном небе.
1920
«Москва! Москва! Безбытье необжитых будней…»
Москва! Москва! Безбытье необжитых будней
И жизни чернота у жалкого огня.
Воистину, велик и скуден
Зачин неведомого дня.
Идет, и шаг его чугунен,
По нежной россыпи снегов в овьюженном Кремле.
Какое варварское однодумье
На неуступчивом челе!
Кругом забвенное посмертье.
Последний плач там, за Москва-рекой, умолк.
Он на снегу еще невыпавшие тени чертит:
Стекло, железо, толпы толп.
А там, в домах, где сон веков поруган,
Рассечена, еще влачится жизнь,
И щедро мы скрепляем кровью скудной
Таинственные чертежи.
Над золотой землей, далекой, медоносной,
Светило легкое, плыви, гори!
Но я не отрекусь от трепыханья косного
Моей обезображенной зари.
1921
«Провижу грозный город-улей…»
Провижу грозный город-улей,
Стекло и сталь безликих сот,
И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри мои уже ложатся тени
Спиралей и винтов иных времен.
Так вот оно — ярмо великого равненья,
И рая нового бетон.
Припомнив прежних дней уют размытый,
Души былой певучий строй и ход,
Какой-нибудь Евгений снова возмутится
И каменного истукана проклянет —
Усмешку глаз, и лик монгольский,
И этот трезвенный восторг,
Поправшего змеи златые кольца
Копытами неисчислимых орд.
Дитя, прочти о наших днях кровавых:
Их было много, и в горячечном бреду
Они не раз пытались выхватить из рук корявых
Железную узду.
Где сечи шли, где деды умирали —
На бархате покоится музейная змея.
Погладь ее — она уже не жалит
Копыта опустившего коня.
1921
«Кому предам прозренья этой книги?…»
Кому предам прозренья этой книги?
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссияет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге
С лицом, повернутым к нему.
1921
Весна снега ворочала,
Над золотом Москвы
Шутя шумела клочьями
Внезапной синевы.
Но люди шли с котомками,
С кулями шли и шли,
И дни свои огромные
Тащили, как кули.
Раздумий и забот своих
Вертели жернова.
Нет, не задела оттепель
Твоей души, Москва!
Я не забуду очередь,
Старуший вскрик и бред,
И на стене всклокоченный
Невысохший декрет.
Кремля в порфирном нищенстве
Оскал зубов и крест —
Подвижника и хищника
Неповторимый жест.
Разлюбленный, затверженный
И всё ж святой искус,
И стольких рук удержанных
Прощальный жар и хруст.
Но верю — днями дикими
Они в своем плену
У будущего выкупят
Великую весну.
Тогда, Москва, забудешь ты
Обиды всех разлук,
Ответишь гулом любящим
На виноватый стук.
Читать дальше