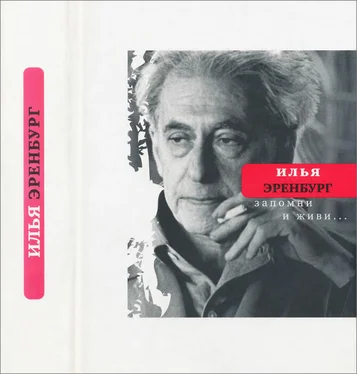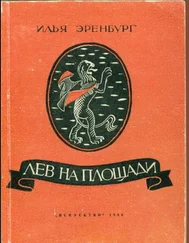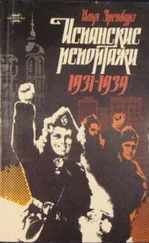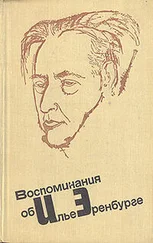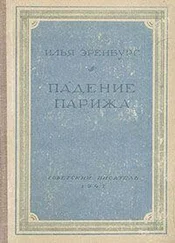Иногда Эренбург ищет рациональные оправдания верности давней присяге, пытается объяснить необъяснимое. Воспоминания о дореволюционной России с миллионами неграмотных крестьян, со страшным бытом и законами домостроя, с межнациональной рознью, затаенной злобой — той России, которую Эренбург знал, а не той, что была и будет на олеографических картинках, — эти воспоминания при сопоставлении с первым в мире советским спутником, с десятками ежедневно приходящих горячих, искренних писем незнакомых читателей, вообще при взгляде на пылкое, многим интересующееся поколение, давно уже окрещенное шестидесятниками, создавали столь сильный контраст, что не могла не родиться надежда: рано или поздно всё это сработает, и люди станут лучше. Это давнее заблуждение Эренбурга относительно быстроты появления «нового человека» касается только масштаба времени. Человечество становится «лучше» лишь в масштабе истории, что делает наивным эренбурговское обольщение «многомиллионными массами» советских читателей. Сегодня этот конкретный аргумент в пользу быстрого прогресса: мы самая читающая страна и т. д. — отпал сам собой. Пессимизм на сей счет всегда оказывается в выигрыше, и булгаковская, устами Воланда, реплика о том, что люди — те же, и «квартирный вопрос» их сделал даже хуже, заслуженно торжествует на ограниченном отрезке исторического времени.
Есть в стихах 1958 года прямая перекличка с испанскими — мотив Верности. Теперь в энергичном стихе Эренбург уточняет его, проклиная веру в идолов. Он различает Веру и Верность, и называет мало что уточняющие адреса Верности: веку, людям, судьбе. Стихи — не политическая декларация, в них многозначность слова зачастую основа выразительности, потому не будем спорить с Эренбургом, но обратим внимание лишь на так не вяжущуюся с советской идеологией (в контексте этого стиха) готовность к смерти, решительно выраженную в финале:
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, —
Верность умеет смотреть.
Стало быть, эта жертвенная Верность (а значит, и присяга) — не режиму, который как раз и ставил исправно к столбу верных ему граждан, а идее, которую этот режим давно растоптал. В жизни Эренбурга всё было сложнее.
В характерное для тогдашней поэзии Эренбурга стихотворение «Есть в севере чрезмерность…» вплетается новый для нее мотив — о большом счастье, которое «сдуру, курам на смех, расцвело». Так пробивается в стихи Эренбурга любовная тема, чтобы в полный голос прозвучать в стихотворении «Про первую любовь писали много…» — в нем речь о последней любви, про вечер жизни: «Когда уж дело не в стихе, не в слове, / Когда всё позади, а счастье внове».
Это — шлейф последней большой любви Эренбурга. Он познакомился с Лизлоттой Мэр в Стокгольме в 1950-м, их роман начался в середине пятидесятых и продолжался до последнего часа Эренбурга. Жена крупного политического деятеля Швеции социал-демократа Ялмара Мэра, Лизлотта родилась в Германии, откуда ее родители бежали после прихода Гитлера к власти, и в итоге оказались в Москве, где она училась в десятилетке, а потом перебралась в Стокгольм, там вышла замуж и вместе с мужем сотрудничала в Движении сторонников мира. Эренбург не скрывал этого романа; Лизлотта была на 26 лет его моложе; посвященные люди шутили, что на их романе держится всё Движение за мир…
Многие из стихов 1957–1958 годов впервые были напечатаны в 1959-м в итоговой книжке «Стихи. 1938–1958». Эту книгу, несомненно, заметили читатели, хотя на нее не было ни одной рецензии (либеральные критики не обладали эренбурговским даром эзоповой речи и помалкивали, ортодоксам же Эренбург был не по зубам: печатно признать криминал в его стихах о природе означало направить мысль читателя в политически опасную сторону).
В 1959 году Эренбург приступил к осуществлению самого монументального своего замысла — мемуарам, над которыми работал до конца дней. Стихи — его лирический дневник — он писал не для печати: не отказываясь от реально возможных публикаций, не спешил предлагать их издательствам и редакциям. Иное дело проза и эссеистика — писательская природа Эренбурга была такова, что он никогда не писал «в стол», считая, что работает для сегодняшнего читателя (другое дело, что лучшие вещи Эренбурга пережили свое время). Так и мемуары — Эренбург мог начать работу над ними, только поняв, что хотя бы половину написанного сможет напечатать (здесь он с самого начала допускал жесткое цензурное сопротивление и готов был печатать не все главы).
Читать дальше