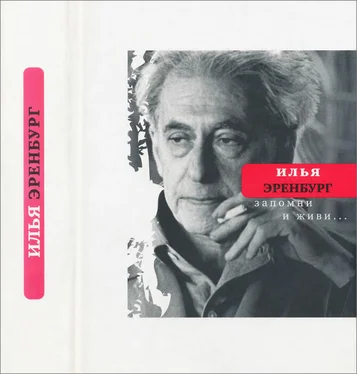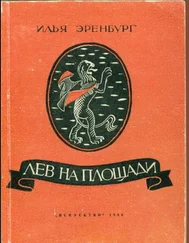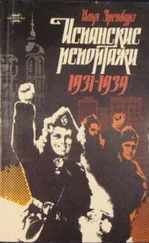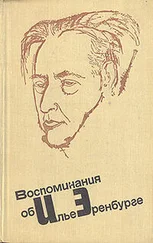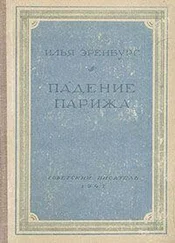Эренбург вспоминал [91] 3, 415.
, как осенью 1957-го работал («стучал на машинке»), поглядел в окно и… так неожиданно для него появилось первое стихотворение «Был тихий день обычной осени…» — про опавшие, мертвые листья, взлетевшие с земли под порывом ветра:
Давно истоптаны, поруганы,
И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной…
Это, конечно, не о листьях, это о своем поколении. В данном случае эзопов язык был не средством обойти цензуру, зашифровав понятным читателю образом свои мысли, а, по признанию автора, «бессилием выразить себя» [92] 3, 420.
, порождавшим сомнения в «верности и точности слова», сомнения, классически выраженные Тютчевым (заметим, к слову, что стихотворение Эренбурга «Ты помнишь — жаловался Тютчев…» с его жестким финальным приговором, не включено автором в книгу 1959 года по причине очевидной цензурной непроходимости его в контексте сборника). Общий же комментарий автора к его стихам 1957–1958 гг. таков:
«Всё, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из рамок исторических оценок, становились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни» [93] 3, 416.
.
«Люди, годы, жизнь» — подцензурные мемуары, и под «выходом из рамок исторических оценок» подразумевались суждения, не соответствующие официальным идеологическим клише. Внимательный читатель Эренбурга находил в его «пейзажной» лирике актуальные раздумья о жизни, хотя цензура и в пейзаже, конечно, выискивала явные аллюзии, но органичность и серьезность эренбурговских природных сюжетов ее обескураживала.
Особенно остро и внятно звучал эзопов язык в стихотворении «Да разве могут дети юга», где географическая подмена (Запад — Восток на Юг — Север) позволила создать эмоционально убедительную картину советской жизни — бытовой и духовной, идеологической, прошлой и нынешней: холода, заморозки, закованная льдом река и прочее — в противовес жизни счастливцев южного рая, «где розы плещут в январе». Не нужны были никакие филиппики по части «культа личности и его последствий» (тогдашний эвфемизм, означавший преступления сталинской эпохи), простые слова:
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода… —
не требовали расшифровки, как и заключительные строки стихотворения:
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.
Это было ясно и неназойливо, все всё понимали — неслучайно именно эти, первые у Эренбурга, стихи стали петь под гитару… Так же и евангельский образ Фомы Неверного, и до того встречавшийся в стихах Эренбурга, обрел теперь актуальный смысл разумности сомнений, и, наоборот, картина смены речных отмелей на полноводье должна, по мысли Эренбурга, приводить не к смирению перед действием слепых сил, а лишь подчеркивать ответственность человека за свою судьбу при всех поворотах истории — дело не в эпохе, дело в нас самих (мысль, ставшая крылатой, благодаря строкам совсем другого поэта, в 1958-м только еще начинавшего свой путь: «Времена не выбирают, / В них живут и умирают». [94] Автор этих строк А. С. Кушнер. — Ред.
Не надо, однако, думать, что стихи Эренбурга — зашифрованная «антисоветчина». Газетная конкретика (в прямом ли, в эзоповском ли виде) вообще отсутствует в его стихах, — стихов «на случай» Эренбург не писал (может быть, за исключением стихотворений «Спутник» и «Товарищам», но и в них содержание существенно шире непосредственного повода). Его стихи — лирические раздумья, и картины природы, столь тонко чувствуемые автором, лишь помогают ему выразить свою мысль (подтекст вообще — существенная черта русской лирики периода оттепели).
Так, стихи «Ошибся — нужно повторить…» начинаются с рассказа об уютным мире заемных слов, знакомом с детства, а заканчиваются горькой исповедью:
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груду слов —
Весь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Не всегда в основе стихов Эренбурга драма его поколения, не всегда и сатирические стрелы (вообще, в стихах Эренбурга с годами всё чаще встречался сатирический сюжет) обращены только к прошлому. Антибуржуазности, усвоенной с юности, Эренбург не изменял; в неопубликованном при жизни автора стихотворении «В их мире, замкнутом и спертом…», речь идет о той части тогдашнего молодого поколения, которая, репродуцировав себя, привольно заняла сегодня просцениум российского жизненного пространства; ее логика нехитра: «Прошла эпоха революций. / А сколько платят за стихи?»
Читать дальше