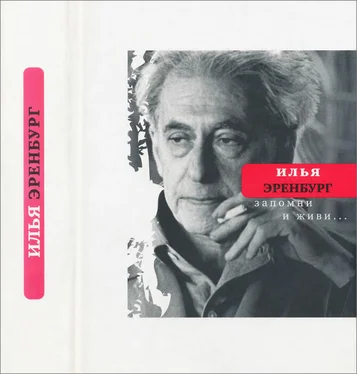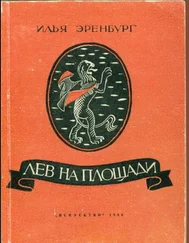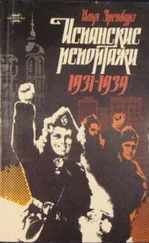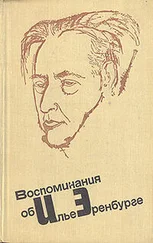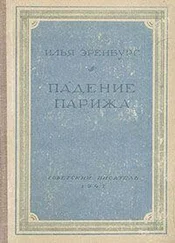Зеваки, случайно забредшие в храм поэзии, корили Вячеслава Иванова за то, что он служит свою литургию на древнем диалекте. Но мы знаем, как ужасно Евангелие на русском или французском языке, как жалок священник в пиджаке. Вся лепота и всё торжество богослужений в стихах Вячеслава Иванова — тяжелые, фиолетовые облачения, причудливый дым ладана и стоголосый перезвон колоколов, в сплаве которых щедрое золото.
Прекрасны все извороты речи: язык будней и язык литургий. Поплывем же на сей раз вверх, против течения, к истокам слова, от Маяковского к «размышлениям» и одам Ломоносова. Там, не замутнена пришлыми ручьями галлицизмов, ясна и светла вода, и еще дальше уйдем под землю, где таятся невспыхнувшие ключи корней непроросшего слова. Пренебрегая широкими вратами, туда ушел Вячеслав Иванов и принес несметные богатства, одарив нас словами необычайными и высокими, трижды заслужив тяжелый, как порфира, титул «Вячеслава Великолепного». Когда Вячеслав Иванов читает стихи, кажется, будто он импровизирует. Девственное волнение, слова, произносимые как бы впервые, не декламация, но признанье, преодолевшее стыдливость сердца и косность языка. Можно не понимать, но нельзя не верить. Он очень сложен, а у нас у всех руки Фомы [280] … руки Фомы — см. стихотворение «Фома Неверный» (1957).
. Что если усомниться — хорошо ли усвоила змея христианские заповеди, мирно ли живет она с невинной горлицей? Но Вячеслав Иванов победил наши сомнения — не восторгом веры, не мудростью, нет — простой любовью. Какой великий конец! Поэт, среди огня и смерти не дорожит своими богатствами, нет, он скидывает ризы, и мы все видим, что не в торжественности, не в сложности его сила, а в том последнем, что скинуть или потерять нельзя. Новым светом горит занесенное снегом одинокое окно. Оно говорит не о празднествах Диониса, не о каменной розе, но о скорби снегов, об общем сиротстве людей, о любви нежной Агни, о милой человеческой, всем внятной могиле. Он пришел к нам жрецом поэтов, он уйдет от нас поэтом людей.
1920
Осип Эмилиевич Мандельштам
«Мандельштам» — как торжественно звучит орган в величественных нефах собора. «Мандельштам? ах, не смешите меня», и ручейками бегут веселые рассказы. Не то герой Рабле, не то современный бурсак, не то Франсуа Вильон, не то анекдот в вагоне. «Вы о ком?..» — «Конечно, о поэте „Камня“» — «А вы?» — «Я об Осипе Эмилиевиче». Некоторое недоразумение. Но разве обязательно сходство художника с его картинами? Разве не был Тютчев, «певец хаоса», аккуратным дипломатом и разве стыдливый Батюшков не превзошел в фривольности Парни? Что если никак, даже с натяжкой, нельзя доказать общность носа поэта и его пэонов?
Мандельштам очаровательно легкомыслен, так что не он отступает от мысли, но мысль бежит от него. А ведь «Камень» грешит многодумностью, давит грузом, я бы сказал, германского ума. Мандельштам суетлив, он не может говорить о чем-либо более трех минут, он сидит на кончике стула, всё время готовый убежать куда-то, как паровоз под парами. Но стихи его незыблемы, в них та красота, которой, по словам Бодлера, претит малейшее движение.
Вы помните: «пока не требует поэта…»? Мандельштам бродит по свету, ходит по редакциям, изучает кафе и рестораны. Если верить Пушкину, его душа «вкушает хладный сон». Потом, — это бывает очень редко, а посему и торжественно, — разрешается новым стихотворением. Взволнованный, как будто сам удивленный совершившимся, он читает его всем и всякому. Потом снова бегает и суетится.
Щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы встают хохолком, он важно запевает баском свои торжественные оды, похожий на молоденького петушка, но, безусловно, того, что пел не на птичьем дворе, а у стен Акрополя. Легко понять то, чего, собственно говоря, и понимать не требуется, портрет, в котором всё цельно и гармонично. Но теперь попытайтесь разгадать язык контрастов.
Мы презираем, привыкли с детства презирать поэзию дифирамбов. Слава богу, Пушкин раз навсегда покончил с ложноклассическим стилем. Так нас учили в гимназии, а кто потом пересматривал каноны учителя словесности? Нас соблазняет уличная ругань или будуарный шепот, Маяковский и Ахматова. Но мне кажется, что явились бы величайшей революционной вентиляцией постановка трагедии Расина в зале парижской биржи или декламация пред поклонницей Игоря Северянина, нюхающей кокаин, «Размышлений» Ломоносова. Девятнадцатый век — позер и болтун — смертельно боялся показаться смешным, тщась быть героем. Он создал актеров без шпаги, без румян, даже без огней рампы. Ирония убивала пафос. Но у нас уже как-никак двадцатые годы двадцатого века, и возможно, что патетичность Мандельштама гораздо современнее остроумного снобизма Бурлюка [281] Давид Бурлюк (1882–1967) — поэт и художник, футурист.
. Великолепен жест, которым он переносит в приемные редакций далеко не портативную бутафорию героических времен. Прекрасен в жужжании каблограмм, в треске практических сокращений державный язык оды.
Читать дальше