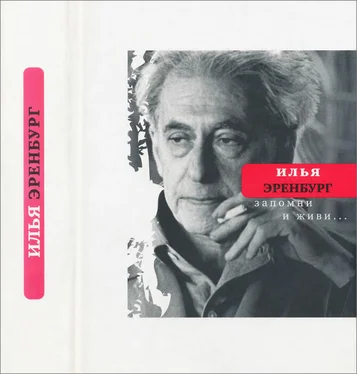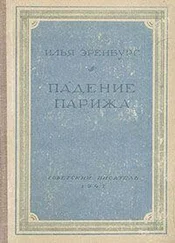Есенин гордо, но и горестно называет себя «последним поэтом деревни». Его стихи — проклятья «железному гостю», городу. Тщетно бедный дуралей-жеребенок хочет обогнать паровоз. Последняя схватка — и ясен конец. Об этой неравной борьбе и говорит Есенин, говорит, крепко ругаясь, горько плача, ибо он не зритель. Когда Верхарн хотел передать отчаяние деревни, пожираемой городом, у него получился хоть и патетический, но мертвый обзор событий. То, чего не сумел выявить умный литератор, питомец парижских кружков символистов, передано российским доморощенным поэтом, который недавно пас коров, а теперь создает модные школы. Где как не в России должна была раздаться эта смертная песня необъятных пашен и луговин?
Русская деревня, сказав старины, пропев песни свои, замолчала на века. Я не очень верю эпигонству фольклора в лице большого Кольцова и маленьких Суриковых. Она вновь заговорила в свои роковые, быть может, предсмертные дни. Ее выразитель — Сергей Есенин. Крестьяне теперь, сражаясь с городом, пользуются отнюдь не вилами, но самыми что ни на есть городскими пулеметами. Есенин так же живо приспособил все орудия современной поэтической техники. Но пафос его стихов далек от литературных салонов, он рожден теми миллионами, которые его стихов не прочтут, вообще чтением не занимаются, а, выпив самогонки, просто грозятся, ругаются и плачут.
Вот эти слезы, эта ругань, эти угрозы и мольбы в стихах Есенина. Деревня, захватившая всё и безмерно нищая, с пианино и без портков, взявшая в крепкий кулак свободу и не ведающая, что с ней, собственно, делать, деревня революции — откроется потомкам не по статьям газет, не по хронике летописца, а по лохматым книгам Есенина. Откроется и нечто большее, вне истории или этнографии — экстаз потери, жертвенная нищета, изуверские костры самосожжения — поэзия Сергея Есенина, поэта, пришедшего в этот мир чтобы «всё познать, ничего не взять».
1919
В восемнадцатом году черной ночью, проходя по пустынным улицам Москвы, слушая выстрелы и плач ветра, любил я глядеть на одно высокое окно. Ревнивым светлым глазом смотрело оно в ночь, непогасимый маяк среди буревой мглы. Я знал, там, наверху, над грудой очень древних и очень мудрых книг бодрствует сторож маяка, один из немногих, тот, что не уходит. Сидит умный и ученый, в старомодном костюме, с золотыми очками. И еще я знал, что может он, встретившись с вражьей мыслью, забегать по кабинету, негодуя, или, попав на строку стиха, заплакать слезами умиленья от нестерпимой красоты, что не иссякло масло в его светильнике и ярче прежнего горит несытое сердце.
Вячеслав Иванов любит православный быт и степенный благообразный свет прихода. Но на сей счет обманываться не следует, и опасно задремать на пригретой осенним солнцем паперти. Близок жадный огонь, и, когда пламя лизнет деревянную ограду, Вячеслав Иванов выйдет не с ведром воды, но с гимном очищающему огню. Ибо сердце его смольный факел, который, чтобы разжечь, ткнули в сухую землю. Как пронес он его через века и страны, от зеленого луга и белого храма по подземельям Средневековья, по остуженным электрическими люстрами залам современности в маленькую комнату на Зубовском бульваре?
Кто определит возраст, происхождение, занятия этого таинственного человека? Дионисов жрец, которому пришелся слишком впору чопорный сюртук немецкого философа? Молоденький музыкант или лютеранский пастор? Старик с отрочески безусым лицом или седовласый юноша?
Да, конечно, Вячеслав Иванов, как горлица, чист, младенческой пасхальной белизной, но он и мудр, как змея, а я никогда не понимал, почему христианину пристойна эта змеиная мудрость. Жало, интимное общение с сатаной, сладкие слова и соблазненные за оградой рая — всё это более похоже на грех, чем на добродетель. Вячеслав Иванов — христианин, благость в его глазах и в стихах елей. Конечно, он кувыркался в священной оргии на полянах вдохновения, но ведь были же крещеные фавны. Надо оставить апостола Павла и костры Мадрида; разве не цвели вокруг белых стен Ассизи [279] … белых стен Ассизи — город в Италии, родина Франциска Ассизского.
золотые, солнечные цветы? Я постигаю, что в кабинете на Зубовском, тесном и маленьком, помещается капище Диониса и уютная церковка с луковками. Но я боюсь жала змеи, мудрости, которой не вмещает человеческое сердце. Вячеслав Иванов девствен и юн, но змеиная мудрость при жизни — ненужная роскошь, она уместна лишь на смертном ложе, между завещанием и последним хрипом. Когда в наши дни смерти и рождения этот мудрец сказал о врагах, похожих друг на друга, как двойники, его просто не услышали. А услыхав, усомнились бы: что это — голос из партера наблюдательного зрителя или крик юродивого? Ибо, как сказано, есть века, когда только безумие является мудростью.
Читать дальше