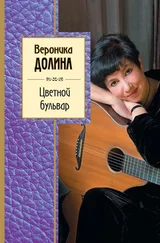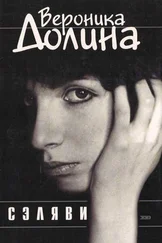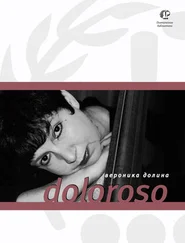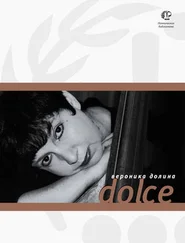Не зови меня напрасно,
Не следи за мной, беда!
В Музыкальном переулке
Я останусь навсегда.
Стану домом и двором,
Стану светом и добром,
Стану небом, стану снегом
Стану чистым серебром.
Стану небом, стану снегом
Стану чистым серебром.
Вместо крикнуть: — Останься, останься, прошу!.
Вместо крикнуть: — Останься, останься, прошу!
Безнадежные стансы к тебе напишу.
И подумаю просто — что же тут выбирать?
Я на теплый твой остров не приду умирать.
Но в углы непокорного рта твоего
Дай, тебя поцелую — всего ничего.
Я сама ничего тут не значу,
Запою — и сейчас же заплачу.
Возьму конверт, расклею,
волнуясь, допишу:
"Все кончено. Прощай. Конец баллады."
Себя не пожалею,
тебя не пощажу,
а может, пощажу, проси пощады,
проси у прямолобой,
не произнесены
все страшные слова, хотя и близки,
проси, пока мы оба
не осуждены
на десять лет без прав переписки.
Возьму конверт, припрячу,
назад не посмотрю,
усилие проделав болевое,
себя переиначу,
тебя перехитрю,
и в ссылку в отделенье бельевое
немедленно отправлю,
в глубь памяти сошлю —
гора с горою, лишь бы не сгорая…
А я стишок подправлю
и с музычкой слеплю —
а как иначе в Туруханском крае?
Так хороши иль плохи,
но видно до конца
меняются черты, отвердевая.
Стираются эпохи,
срываются сердца,
хранит секреты полка бельевая.
Лет сто, а может двести
промчатся, чуть помят
конверт найдется — ведь находят клады.
Меня на новом месте
порядком изумят
слова "Все кончено. Прощай. Конец баллады."
Вот минувшее делает знак и, как негородская пичуга,
Так и щелкает, так и звенит мне над ухом среди тишины.
Сердце бедное бьется — тик-так, тик-так, — ему снится Пицунда,
Сердцу снится Пицунда накануне войны.
Сердце бьется — за что ж извиняться? У папы в спидоле помехи.
Это знанье с изнанки — еще не изгнанье, заметь!
И какие-то чехи, и какие-то танки.
Полдень — это двенадцать. Можно многого не уметь.
Но нечестно высовываться. Просто-таки незаконно.
Слава Пьецух — редактор в "Дружбе Народов", все сдвиги видны!
Снова снится Пицунда, похожая на Макондо.
Снова снится Пицунда накануне войны.
Сердце бьется, оно одиноко — а что ты хотела?
На проспекте Маркеса нет выхода в этом году.
И мужчина и женщина — два беззащитные тела
Улетели в Пицунду, чтоб выйти в Охотном ряду…
Улетели в Пицунду, чтоб выйти в Охотном ряду…
N.B.: Дважды была я на Пицунде: в августе 68-го и в августе 92-го (В.Д.)
Все дело в Польше,
Все дело все таки в Польше,
Теперь то ясно из этого
жаркого лета.
А все, что после, а все, что было позже и после
Всего лишь поиск того пропавшего следа.
Но от субботы до субботы
Быть может, я и доживу,
Дожить бы, милый, до свободы.
Да, до свободы наяву.
Быть может, воздух рукой дотянусь все в шаге.
Да, это воздух, ах, вот как меня прищемило.
А может, возраст в прохладной сырой Варшаве?
Допустим, возраст но было смешно и мило.
Но от субботы до субботы
Быть может, я и доживу,
Дожить бы, милый, до свободы.
Да, до свободы — наяву.
Но как же больше?
Где мы заблудились в Польше?
И этот поезд на выручку и навырост.
А все, что после — то тоньше, гораздо тоньше,
Душа не врет, и история нас не выдаст.
Но от субботы до субботы
Быть может, я и доживу,
Дожить бы, милый, до свободы.
Да, до свободы — наяву.
Всех прикроватных ангелов, увы,
Насильно не привяжешь к изголовью.
О, лютневая музыка любви,
Нечасто ты соседствуешь с любовью.
Легальное с летальным рифмовать —
Осмелюсь ли — легальное с летальным?
Но рифмовать как жизнью рисковать.
Цианистый рифмуется с миндальным.
Ты, музыка постельных пустяков —
Комков простынных, ворохов нательных —
Превыше всех привычных языков,
Наивных, неподдельных.
Поверишь в ясновиденье мое,
Упавши в этот улей гротесковый,
Где вересковый мед, и забытье,
И образ жизни чуть средневековый.
Ищу необнаруженный циан,
Подлитый в чай, подсыпанный в посуду…
Судьба — полуразрушенный цыган,
Подглядывающий за мной повсюду.
А прикроватных ангелов, увы,
Насильно не поставлю в изголовье,
Где лютневый уют, улет любви
И полное средневековье.
Читать дальше