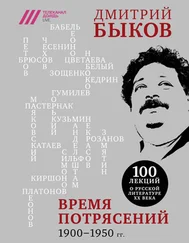И я работал на пяти работах,
Отпугивая призрак нищеты,
Удерживаясь на своих оплотах,
Как бич, перегоняющий плоты.
Пусть я не знал блаженного слиянья,
Сплошного растворения, — зато
Не ведал и зудящего зиянья
Величиной с великое ничто.
Я человек зазора, промежутка,
Двух выходов, двух истин, двух планет…
Поэтому мне даже думать жутко,
Что я умру, и тут страховки нет.
За все мои лады и переливы,
За два моих лица в одном лице —
О Господи, ужель альтернативы
Ты для меня не припасешь в конце?
Не может быть! За черною завесой,
За изгородью домыслов и правд
Я вижу не безвыходный, безлесый,
Бесплодный и бессмысленный ландшафт,—
Но мокрый сад, высокие ступени,
Многооконный дом на берегу
И ту любовь, которую в измене
Вовеки заподозрить не смогу.
1994 год
Дневное размышление о божием величестве
Виноград растет на крутой горе, не похожей на Арарат.
Над приморским городом в сентябре виноград растет, виноград.
Кисло-сладкий вкус холодит язык — земляники и меда смесь.
Под горой слепит золотая зыбь, и в глазах золотая резь.
Виноград растет на горе крутой. Он опутывает стволы,
Заплетаясь усиком-запятой в буйный синтаксис мушмулы,
Оплетая колкую речь куста, он клубится, витиеват.
На разломе глинистого пласта виноград растет, виноград.
По сыпучим склонам дома ползут, выгрызая слоистый туф,
Под крутой горой, что они грызут, пароходик идет в Гурзуф,
А другой, навстречу, идет в Мисхор, легкой музыкой голося,
А за ними — только пустой простор, обещанье всего и вся.
Перебор во всем: в синеве, в жаре, в хищной цепкости лоз-лиан,
Без какой расти на крутой горе мог бы только сухой бурьян,
В обнаженной, выжженной рыжине на обрывах окрестных гор:
Недобор любезен другим, а мне — перебор во всем, перебор.
Этих синих ягод упруга плоть. Эта цепкая жизнь крепка.
Молодая лиственная щепоть словно сложена для щипка.
Здесь кусты упрямы, стволы кривы. Обтекая столбы оград,
На склерозной глине, камнях, крови — виноград растет, виноград!
Я глотал твой мед, я вдыхал твой яд, я вкушал от твоих щедрот,
Твой зыбучий блеск наполнял мой взгляд, виноград освежал мне рот,
Я бывал в Париже, я жил в Крыму, я гулял на твоем пиру —
И в каком-то смысле тебя пойму, если все-таки весь умру.
1995 год
«Собачники утром выводят собак…»
Собачники утром выводят собак
При всякой погоде и власти,
В уме компенсируя холод и мрак
Своей принадлежностью к касте.
Соседский татарин, и старый еврей,
И толстая школьница Оля
В сообществе тайном детей и зверей
Своих узнают без пароля.
Мне долг ненавистен. Но это инстинкт,
Подобный потребности псиной
Прислушаться, если хозяин свистит,
И ногу задрать под осиной.
Вот так и скользишь по своей колее,
Примазавшись к живности всякой:
Шарманщик с макакой, факир при змее,
А русский писатель — с собакой.
И связаны мы на родных мостовых,
При бледном с утра небосводе,
Заменою счастья — стремленьем живых
К взаимной своей несвободе.
1999 год
«Старуха-мать с ребенком-идиотом…»
Старуха-мать с ребенком-идиотом —
Слюнявым, длинноруким, большеротым —
Идут гулять в ближайший лесопарк
И будут там смотреть на листопад.
Он не ребенок. Но назвать мужчиной
Его, что так невинен и убог,
С улыбкой безнадежно-беспричинной
И с головою, вывернутой вбок?
Они идут, ссутулившись. Ни звука —
Лишь он мычит, растягивая рот.
Он — крест ее, пожизненная мука.
Что, если он ее переживет?
Он не поймет обрушившейся кары
И в интернате, карцеру сродни,
Все будет звать ее, и санитары
Его забьют за считанные дни.
О, если впрямь подобье высшей воли
Исторгло их из хаоса и тьмы
На этот свет — скажи, не для того ли,
Чтоб осторожней жаловались мы?
А я-то числю всякую безделку
За якобы несомый мною крест
И на судьбу ропщу, как на сиделку
Ворчит больной. Ей скоро надоест.
Но нет. Не может быть, чтоб только ради
Наглядной кары, метки нулевой,
Явился он — в пальто, протертом сзади,
И с вытянутой длинной головой.
Читать дальше