На этом примере вспоминаю все возражения, которые приходилось слышать и уважать: «ценно только то, что непосредственно, а не то, что вызвано чувствам долга». Но ведь оно, это «чувство долга», т. е. чувство совести, единственное связывает людей… безрадостно и бессрочно. Мир, построенный на радости личного вдохновения, в тоске по личной любви, в надежде на личное бессмертие – что стало с этим миром?
Но – искусство? Невозможное без вдохновения, «святое искусство»? Оно, прежде всего, серьезно – это искусство. Вдохновленное серьезностью, оно прислушивается, предчувствует, приближает тему каждого нового дня.
Настоящее искусство современно, и этим вечно. Не такими ли сегодня кажутся строки:
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви…
Совесть тоже бывает гениальной…
Трудно сказать, в чем тема нашего дня. Но «тональность» его сурова.
А нежность? Она не исчезла из мира, но как влага, испарилась с поверхности земли. Быть может, для того, чтобы пролиться когда-нибудь новым дождем…
Испарилась вся – вода, слезы, роса. Начинается засуха. От засухи повсюду вспыхивают пожары. Становится трудно дышать…
Светает. В этот час мне всегда кажется, что ко мне возвращается душа, которая с заката до рассвета скитается в поисках чего-то. Где только она не побывала, чего не просила у близких и далеких. Ока уже похожа на старушку с обветренным лицом. А на дне сумы у нее, среди кучи медяков и всякой рухляди, тяжелая, потускневшая золотая монета. В тысячный раз разглядываю стертую надпись, одно слово: «верность» или «вечность». Нельзя разобрать – и не все ли равно?
«Литературный смотр» Свободный сборник. Париж, 1939.
H. БОЛДЫРЕВ. Мальчики и девочки. Из-во Новые Писатели, Париж. 1929.
Бывает часто, что название книги очень точно и ярко передает читателю основную, «недосказанную» мысль автора. Если автор молод («Мальчики и девочки» первая книга И. Болдырева), то это почти неожиданно для него самого. Тем более важно, в данном случае и удачно: «Мальчики и девочки». Это просто, претенциозно просто, скажут. Но для читателя мало искушенного (кажется, таково большинство), не судящего о книге с точки зрения «литературы вообще, до и после», для такого читателя ясно с первых страниц, что существует и такой подход к жизни, когда «Мальчики и девочки» самое главное и что в этом оправдание некоторой узости, даже наивности книги.
Революционная Москва. Действие происходит в 18-ом, 19-ом годах. Место действия – вчерашняя гимназия, сегодняшняя советская школа. Фон – естественный, не кричащий, даже слегка притушенный. На нем лица, группы, – мальчики, девочки, педагоги. Личности бледны, общее настроение лучше передано. Чувствуется рост молодежи, развитие вопреки внешним событиям. Учатся, думают, спорят (очень обыкновенны, потому и хороши гимназические «сюжеты», споры Сережи, Вали). Ставятся полудетским, важным тоном – «вечные» вопросы. «Есть ли, наконец, Бог?». Конечно, и о любви. Но тут меньше говорят – больше гуляют парочками, больше целуются. Иногда, умом, любви противятся (и это для возраста очень верно, «недостойно»). А кругом май. Москва, откуда приехали с бутербродами, выданными продовольственной комиссией, – эта Москва сейчас далеко. Уснул, в ожидании обратного поезда на воле «не городской», педагог-работник. Он, чуть ли не единственный в школе – «ко второму полугодию бодрых между педагогами по пальцам пересчитать». Устали, спутались, смутились. Не устали и не очень испугались Шуры, Кати, Али и Сережи. Москва, конечно, революционная. Голод. Беспокойно немного. Валя на Рождество за мукой в Казань ездит, но думает она не о муке и не о холоде, а о том, что вот Женя с ней, и он влюблен, интересно, как он себя вести будет?
Гимназия, вот уже год, как не гимназия, а трудовая школа. Но говорить языком Кости Рябцева еще не могут вчерашние гимназисты и гимназистки. В те месяцы еще не решили, хорошо ли это или плохо – большевики? Интересно и кроме революции очень многое. Вот особенно Достоевский. «Только его и стоит читать», – говорит Катя. Есть в школе, конечно, и кружки, есть коммунист Френкель и, в общем, «большевики, конечно, молодцом, у них все вышло». Только Сережа в недоумении: «При чем же тут большевики?» Разговор ведь велся важный, о Раскольникове. – Неужели так никогда и не решите, «убить или не убить?», так всегда, без выхода? Первая безысходность в шестнадцать лет. Большевики тут, пожалуй (пока, по крайней мере), действительно, ни при чем.
Читать дальше
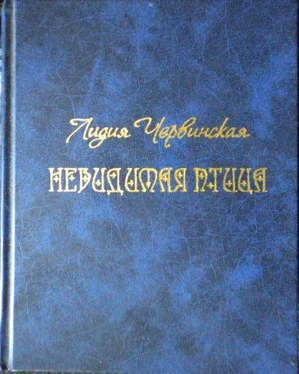


![Конни Мейсон - Птица счастья [Птица страсти]](/books/338319/konni-mejson-ptica-schastya-ptica-strasti-thumb.webp)

