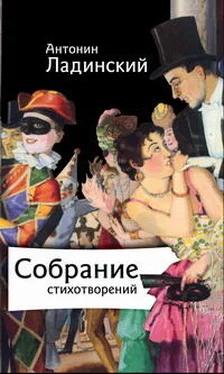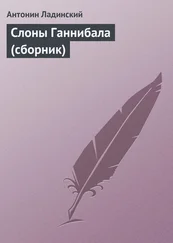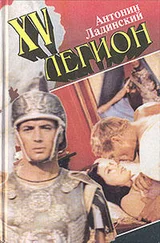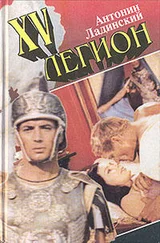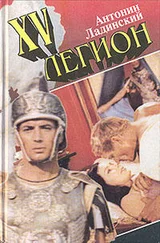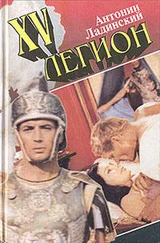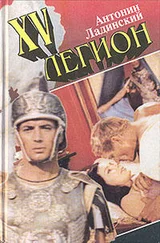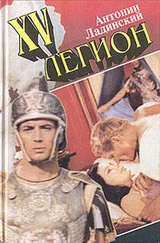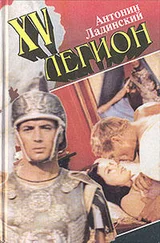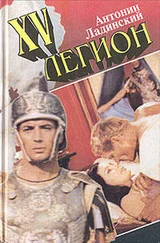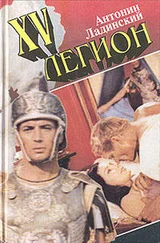Стихи его нередко были бы прелестны, если бы их не портила некоторая неразборчивость вкуса, а также какое-то странное стремление к прояснению, к рассудочному выводу, совершенно напрасно навязываемому нам. <���…> В целом, однако, есть у Ладинского чистота и честность, за которые много можно ему простить» (Вейдле В. Три сборника стихов // Возрождение. 1931. 12 марта. № 2109. С. 4).
Глеб Струве в своих «Заметках о стихах» вступил в полемику с Вейдле: «Стихи Ладинского очень выигрывают от соединения в одной книге. Соединенные так, они звучат, как полнозвучный хорал, как стройный гимн голубым небесам и черной земле <���…> У Ладинского свой, неповторимый, установившийся голос, тот голос, который, по слову Валери Ларбо, является вернейшим признаком стиля писателя.
Недавно один обычно тонкий и проницательный критик, разбирая три книги стихов, упрекнул Ладинского, наравне с Борисом Поплавским, в “опасной поэтической неопределенности”. Упрек, мне кажется, на редкость несправедливый — поэзии Ладинского присуща, наоборот, редкостная крепость, определенность, вещественность. Этим он сродни Гумилеву и отчасти Осипу Мандельштаму. С последним его роднит порой и нарочитая тяжеловатость и торжественность стиха. Но, мастер сочетания контрастов, он с этой мандельштамовской тяжеловесностью сопрягает кузьминскую легкость и, как кто-то правильно заметил, “элевацию”.
У музы Ладинского тоже есть свой излюбленный поэтический пейзаж: это — морозный, рождественский, праздничный, чуть лубочный пейзаж, в котором цветут “зимние пальмы” и “эскимосские розы”, голубеют снежные сугробы и протекает черная Лета. Эго пейзаж нарочито условный, романтический, где господствуют три цвета: голубой, черный и розовый. <���…> Ладинский остро чувствует прелесть мира — земли и неба равно. Его ангелам “сладок… бренный темный воздух земли” и, отлетая “к райским рощам, домой”, они руками хватают “черный воздух земной”. А его люди “скучают на земле, как в колыбели, — мечтая о небесных поездах”. <���…> Ладинский вслед за Гумилевым продолжает в русской поэзии линию мужественности: его муза “не жалуется на невзгоды” и “бредит о войне”, его стихи “под призрачный галоп копыт” шевелит “ветерок с полей сражений”. <���…> Ладинский не боится ни “сюжетности”, ни “живописности” в стихах: он уверенно и смело подчиняет их своей творческой воле поэта: чудесны стилизованные зимние пейзажи бревенчатого Архангельска и готического Нюренберга. Рядом с вымученными тепличными созданиями многих молодых поэтов, его на морозе взращенная поэзия, эта “эскимосская роза”, поражает и радует своей красочностью. Свежие полнокровные образы, упругие прихотливые ритмы и богатые без назойливости рифмы — таковы внешние атрибуты этой музы, которая не боится дышать “кастальской стужей”» (СтрувеГ. Заметки о стихах // Россия и славянство. 1931. 28 марта. № 41. С. 4).
Почти одновременно с газетными рецензиями начали появляться и отклики в журналах. Марк Слоним писал в «Воле России»: «Первое и бросающееся в глаза достоинство книги Ладинского — ее поразительная цельность. Основной лейтмотив проникает все эти стихотворения, написанные под знаком “черного и голубого”. Черное — это земная кровь, дым, вьющийся над бревенчатыми срубами Московии, темнота нищеты и скудости, все наше бедное и здешнее житье, где нам и скучно, и тяжко, и беспокойно. А голубое — небесная даль, песня, летящая в высь, роза, над которой
бабочкой вьется тоскующая душа, порыв музыки и сон музыки. Но и в земном плене, в черной тюрьме, не знает душа — где правда, и вот уже начинает казаться, что всего прекраснее — земля. И ее страдания — а возвышенность холодного эфира пугает чужой далью <���…>
Об этой борьбе “черного и голубого”, об этой тоске человека, влюбленного в землю и обреченного смерти, познавшего прелесть “проклятой планеты” и все же задыхающегося в тесном кольце существованья и рвущегося в необозримые Елисейские поля свободы — рассказывает книга Ладинского.
Единству темы соответствует и единство поэтического лада. Ровное ритмическое дыхание оживляет стихи Ладинского. Они всегда легки, изящны, блестящи. Избегая пышных слов, стремясь к полновесности и отчетливости, Ладинский владеет в совершенстве тем, что мы называем “поэтической пунктуацией”; его предложения укладываются в ямбические строфы; стих льется вольно и законченно, на всем лежит печать “божественного строительного расчета”, о котором говорит поэт, восхищаясь прелестью творений Великого Архитектора.
Читать дальше