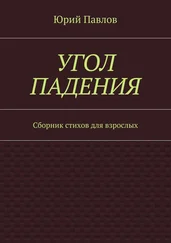«Когда падёт последний оплот…»
Когда падёт последний оплот,
когда догорит свеча
и виноградное мясо пожрёт
жирующая саранча —
останется только начальный стих,
обглоданный до кости.
И он брезгливо из памяти вод
своё отраженье сотрёт.
А шарик — который на произвол
судьбы послала душа —
будет кружиться, страшен и гол,
как биллиардный шар.
Ужас ночной морзянки,
посланной в никуда.
Ты — дед Мазай. Мы — зайцы.
Подступает вода.
Умствований помимо,
всё замутняющих лишь,
просто спаси и помилуй.
Или — хотя бы — услышь.
В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего.
Лк., 2: 8
В начале был внезапный свет
на небе. Мы — и млад и сед —
пошли за ним в густую тьму.
Я сам не помню почему.
Мела метель. Колючий снег
слезинки иссекал из век.
Как потревоженная мгла
отара тёмная текла
за нами, блея тяжело.
У хлева снега намело.
Мать, приподнявшись нам навстречь,
дитя пыталась уберечь
от холода, людской вражды.
От света ведшей нас звезды.
Свет материнского лица
ещё окутывал мальца,
но свет небесный, голубой,
обоих облекал собой.
Потом, беспомощен и мал,
младенец Сам светиться стал,
Собой преображая мир.
Мы отдали свой хлеб и сыр,
пред Ним склонившись до земли,
и осторожно отошли,
по мёрзлому песку хрустя.
Свет источавшее Дитя
нам улыбнулось — и погас
небесный свет, приведший нас.
Теперь светился Он один.
Для ослабевшей от родин
свет что-то значил — а для нас
был чистым чудом, без прикрас.
Ведь то, чего страшилась мать,
мы не умели понимать.
* * *
С тех пор прошло немало лет.
Я сделался угрюм и сед,
неповоротлив стал, как вол.
И вдруг какой-то зов привёл —
внезапен, непреодолим —
на Пасху в Иерусалим.
Предпраздничный плескался дух.
Как рой навозных зимних мух,
чуть ошалевших от тепла,
жужжала жадная толпа.
Но подступила тошнота,
и страшный силуэт креста
мой взор ослабший приковал.
Там Тот, Кто светел был и мал,
был смертной мукою измят —
ослабший, как при родах мать.
А мать не отводила взор
от неба. Мука и укор
застыли на её лице.
И я подумал об отце:
кто был он — плотник иль пастух?
Но испустил Страдалец дух,
пробормотав какой-то бред…
И яростный небесный свет
толпу едва не свёл с ума.
А после наступила тьма.
* * *
Я жив: дышу, дряхлею, ем.
За что мне Это? И зачем?
«Труд, который суров и нелеп…»
Труд, который суров и нелеп:
из забвенья выращивать хлеб.
Если хлеб этот честно пропечь,
то получится русская речь —
та, что освобождает уста,
а не для осквернения рта.
Ватутина Мария. Белый свет
«Я твердила себе: не могу, не могу, ну нет…»
Я твердила себе: не могу, не могу, ну нет
больше сил моих, Господи, взращивать белый свет,
оберегом быть ему, клеточкой, скорлупой.
Я от света стала выцветшей и слепой.
Так сначала в майской дымке пресветлых утр
в лепестках сирени копится перламутр,
а потом соцветья все набухают мглой,
потому что тяжек свет, словно водный слой.
Из меня струился свет в миллионы душ,
из меня испили свет миллионы глаз.
У меня внутри прокатный стан обнаружь
и закрой его, Господи, хоть на день, на час.
Я устала, Господи, в этой плавке самой себя,
я давно миллионы раз проходила горн:
от котла со сталью, булькая и сипя,
прорывалась в космос, мордой вонзалась в дерн.
Но светила — пятой точкой, пальчиком из носка,
потным лбом своим и краснотой стыда.
Если есть на свете свет, он и мой слегка,
ты ведь сам просил светить на свои стада.
Читать дальше