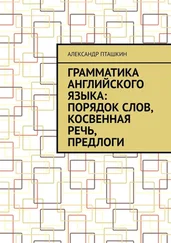Дождь и гроза, и серое стекло
Кривыми струйками заволокло;
Ты помнишь ли, насколько хороша
Тёмная звериная душа?
А коль забыл, то зверя позови —
И он придёт, но если изнутри,
То не завидую тебе я, друг Гораций;
Извне бы лучше… Вот под шум акаций
К тебе в квартиру входит Бегемот.
Возможно, он – галлюцинаций плод,
А может, воплощенье Сатаны —
Ведь в свиту входит… Впрочем, там равны
И падший ангел, и ещё один —
Может, палач, а может, паладин
Его, того же… Что же ты один?
Зачем к тебе нейдёт твоя подруга?
Обидел чем? Или другого круга?
Но, может быть, ей тоже одиноко?
(Нам не унять небесного потока).
Ей пусто в одиночестве; так что же
Ты здесь один? Ведь это не похоже
Так на любовь, как не похожа страсть на страх,
Как завтра не похоже на вчера.
Сидишь, отрезан от своей любви…
Губами имя милой назови:
Оно – любовь. Толпятся кров и кровь
Составить рифму; триединство слов —
Загадка, тайна; и не нам с тобой решить:
Не делится.
В остатке слово: жить.
Не верится?..
Я будущего времени глагола боюсь, как чукча лазера.
Давно, на языке божественном глаголя, кручусь я
в настоящем – как в кино, когда впотьмах сидишь
в казённом кресле и жизнь чужую бдительно
живёшь, своей наскучив; ведая заране, что всё,
что происходит на экране, отнюдь не в настоящем,
а в плюсквамперфектум (хорошо бы к нам слегка
от вас перфектума прибавить, лениво думаешь);
и спинка кресла давит; встаёшь и, тычась то ли
в стулья, то ли в пятки, с людским отливом к выходу
плывёшь, чужую жизнь оставив без оглядки, как тот
очаг, что на куске холста пылал вот так же пламенем
карминным, но не согрел бедняжку Буратино. Как
скучно, друг Гораций, мне в настоящем! Если бы
прокрасться назад, туда, в плюсквам-, но минус
к нам… Не думай, я не пьян и не болван, но мне
уютно нынче только в прошлом, как в плюшевом
фотоальбоме пошлом, где ворс обложки выцвел,
запылился, где дядюшка, смеясь, остановился,
уставившись на левую страницу – страницу, где
остались только лица, а имена, которые храниться
должны бы в памяти… Но память изменяет, как
моряку жена, хотя должна блюсти бы верность…
Да кому нужна та память, что всегда тебе верна?
Ведь булка пухлая воспоминаний нужна, чтоб
выковыривать изюм привычного и сладкого:
мечтаний стать доктором, и докторский костюм, из
наволочки сделанный умело, и тапочки, надраенные
мелом; трамвай с кондуктором, и шиндер на кобыле;
медведь, машинкой стриженный под нуль, как
новобранец; и портрет Кармен на мыле и пудре
маминой, флакон зелёный с «Шипром», бутылка
портера, открывшаяся с шипом, и обещанье мамы:
«Я приду, как только ляжешь спать, к тебе опять». Она
не приходила. Но не ждать её я не умел – и потому
всего, что в будущем, боюсь и не люблю, хоть слово
«мама» в прошлом. Я ловлю себя на том, как осторожно
строю фразу и достаю из кипы слов не сразу глагол,
чтобы не сжечь сердца людей, что ждут надежды,
времени подвластной лишь будущему. Белые одежды
мы обретём едва ль, ведь мы Е2 – Е4, как пешки,
жизнь по клеточкам ходили, а если б нам от них —
слегка перфектум… Прими поклон мой, прошлое, —
с решпектом.
Ты спишь, Гораций? Мне ещё не спится. Час третьей
стражи – или третий час? Веретено у Парок или
спицы? На чём распят судьбы моей пасьянс? Вот
тут петля спустилась. Где-то нитка запуталась,
свернулась, как улитка; а там дыра зияет на судьбе,
но выглядит подобием узора, который даже
нравится тебе, однако мне недостаёт простора в
плетёном паутинном полотне: здесь слишком много
швов, соединений, крест-накрест, вкривь и вкось
переплетений, а вот заплатка!.. Нитка стала гладкой,
а факел тусклым. Парки в полутьме бормочут что-
то и прядут – иль вяжут – мою судьбу, и хлопья
чёрной сажи летят на тоненький моточек пряжи…
Уже подходит час четвёртой стражи.
Гораций, salve!
Твой знакомый лжив,
Который уверял, что я…
Я жив.
Я жив, и я с повинной головой,
Хоть не могу сказать, что я живой.
Ты сам когда-то звал меня софистом;
Мои софизмы лопнули со свистом,
Как…
Впрочем, я отвлёкся. Так давно
Я не писал, что высохли чернила.
Порывом ветра склянку уронило.
Я вздрогнул и очнулся. Что со мной?
Мой город по ночам меня тревожит,
Хоть от него осталось только имя;
Во сне он тише выглядит и строже
И манит улицами старыми своими.
Пойдём от монумента? – В полный рост
Стоит под душем позднего заката.
Ты помнишь, как с тобою мы когда-то
Поспорили: он смотрит на норд-ост
Или, как горячился ты, на запад?
Но в памяти остался только запах
Нагретого асфальта и травы,
И лебеди на берегу канала,
И профиль лебединой головы
Под мостиком, согнувшимся устало.
Теперь бульвар. Он так перелицован,
Чтоб новое явить своё лицо вам —
И нам с тобой, – что стал почти чужим.
Ты мне кричал: «Бежим скорей, бежим!
Держи норд-ост, подошвы не жалей!»
О, бег во сне! – бег курицы в желе,
Где жизнь и рок висят на волоске —
Точнее, на оборванном шнурке.
Ты прав: на запад смотрит монумент,
Потупив утомлённо тёмный взор.
Хотя быть нелюбимым не позор,
Там не предвидится, похоже, перемен…
Но я упрям, и я держу норд-ост.
Мой путь во сне великолепно прост:
Вниз по бульвару, в порт…
Но прежде к парку,
Свернём направо. Впереди, под аркой,
Фонарь зажжён был и сиял так ярко,
Как мальчик в ожидании подарка
На ёлку. Помню я, таким был ты…
Ворота. Сумрак. Ржавые болты…
А где же парк? Постой, Гораций: арка,
По-моему, не та?..
Да и фонарь,
Похоже, в позапрошлую эпоху
Горел последний раз.
Кому-то плохо,
Мой милый: или городу, иль мне:
Я узнаю не камни, а камней
Следы на той земле, где были камни.
Нет никого на улицах, и ставни
Закрыты наглухо.
Давай вернёмся к арке,
Пройдём под ней и в нашем старом парке
Окажемся, – ведь мы идём норд-ост?
…Фонарь ослеп.
За аркою – погост.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Елена Катишонок - Счастливый Феликс [рассказы и повесть]](/books/25439/elena-katishonok-schastlivyj-feliks-rasskazy-i-pove-thumb.webp)