Сделать это можно путем непосредственного воздействия на человеческое тело различными медикаментами, при помощи лоботомии, вынужденной бессонницы и т. п. Но у такого метода есть недостаток: жертвы эксперимента будут знать о том, что вы намерены сделать из них рабов, и, поскольку рабом быть никому не хочется, они будут возражать, так что проделать это удается лишь с социальными меньшинствами — узниками или сумасшедшими, которые не могут оказать сопротивление.
Другой метод — играть на чувствах, которые известны только вам, а подопытным становятся известными лишь после того, как они дадут закабалить себя. В этом случае не только можно, но даже нужно скрывать свои истинные намерения, потому что, если люди узнают, что ими манипулируют, они не станут доверчиво и послушно исполнять вашу волю. Реклама, рассчитанная на снобов, например, будет иметь успех только у тех людей, которые не подозревают о своем снобизме и не понимают, что это именно их имеют в виду, и потому они будут воспринимать такую рекламу как откровение — а именно так Отелло воспринимает слова Яго.
Яго обращается с Отелло совершенно по формуле Фрэнсиса Бэкона, говорившего, что научное исследование с помощью изощренной пытки раскрывает сущность природы и ее тайны. Если бы кто-нибудь из зрителей в разгар действия вдруг крикнул, обращаясь к Яго: "Что же вы делаете?", — то наверняка тот ответил бы ему, усмехнувшись: "А что? Ничего. Просто пытаюсь узнать, что представляет собой Отелло". И мы должны признать, что его эксперимент прошел успешно. К концу пьесы он действительно все знает об изучаемом объекте, в который для него превратился Отелло. Вот отчего его последние слова: "Все сказано. Я отвечать не стану" [644]— звучат так зловеще — к тому времени Отелло для него стал вещью, которой бесполезно что-либо объяснять.
И почему бы ему так не ответить? В конце концов Яго узнал то, что хотел узнать. Но что не позволяет нам от всего сердца заклеймить Яго позором — то, что мы, люди современной культуры, единодушно считаем, что право на знание абсолютно и ничем не ограничено. Ежедневная колонка скандальной хроники — это только одна сторона медали, кобальтовая бомба — ее другая сторона. Мы признаем, что, хотя пища и секс сами по себе не вредны, чрезмерное увлечение и тем и другим ни к чему хорошему не ведет, но почему-то нам трудно согласиться с тем, что беспокойство ума — явление того же порядка, и понять, что знание и истина не одно и то же. Применив категорический императив к процессу познания (то есть вопрос: "Что я могу узнать?" — поставить таким образом: "А что я в данную минуту хотел бы узнать?"), мы вынуждены будем допустить, что истинным для нас будет только такое знание, которое мы можем применить в своей жизни, а это большинству из нас покажется глупым и едва ли не аморальным. Но в таком случае имеем ли мы право сказать Яго: "Как смеешь ты?!"
Ты — музыка,
но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем же любишь то,
что так печально, Встречаешь муку радостью такой?
У.Шекспир
Профессор Уилсон Найт и другие справедливо заметили, что в поэзии Шекспира важную роль играют образы, связанные с музыкой, показав, например, что в ряду положительных образов музыка занимает такое же место, какое среди отрицательных занимает образ Бури.
Любовь к музыкальным образам вовсе не означает, что сам Шекспир был музыкально одаренным — некоторые очень хорошие поэты были напрочь лишены музыкального слуха. В те времена стихотворец, используя музыкальные образы, с каждым из них связывал определенные ассоциации, потому что они были частью характерной для эпохи
Ренессанса теории о природе музыки и о воздействии ее на человека.
Если бы кого-нибудь в то время спросили: "Что есть музыка?", — в ответ он сказал бы то же, что Лоренцо говорит Джессике в последней сцене "Венецианского купца". Мистер Джеймс Хаттон в своей замечательной статье, помещенной в "Английском альманахе" и посвященной "нескольким английским поэтам, воспевающим музыку", проследил развитие этой теории от Пифагора до Фи-чино [645]и рассказал о происхождении большинства образов, упоминаемых Лоренцо. Вкратце эту теорию можно представить следующим образом:
1. Музыка — уникальнейший вид искусства, поскольку она — единственный вид искусства, существующий в раю, где музицируют ангелы. В аду, напротив, царит какофония звуков.
2. Человеческий разум в состоянии постичь, что эта небесная музыка существует, потому что может угадать математические пропорции. Но человеческое ухо не может услышать ее как из-за грехопадения человека, так и из-за того, что ухо — телесный орган, подверженный изменениям и смерти. То, что Кампанелла называет molino vivo [646], заглушает музыку сфер. Однако в исключительных случаях, например в состоянии экстаза, некоторые люди слышали ее.
Читать дальше


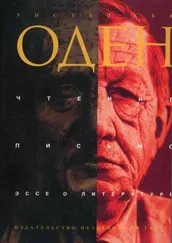


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




