Единственное в панэллинском мире Кавафиса, что вызывает любовь и преданность, неподвластные никакому краху, это греческий язык. Его восприняли даже чужаки, и язык, сумев приспособиться к чувствам, непохожим на аттические, стал только богаче.
А надпись, разумеется, на греческом.
Но только без излишеств и прикрас —
иначе наш проконсул, всюду рыщущий
и доносящий в Рим, прочтет не то.
Теперь о главном. Проследи внимательно
(и ради Бога, не забудь, Ситасп!),
чтоб после слов "Правитель" и "Спаситель"
изящным шрифтом выбили "Филэллин".
И хватит изощряться в остроумии
в своих "Да кто здесь грек?", "Откуда грекам
тут взяться — за Фраатами и Загром?".
Раз варвары еще похуже нашего
такое пишут, подойдет и нам.
И кстати, не забудь, что временами
к нам забредают то софист из Сирии,
то виршеплет или другие умники…
Мы — не чужие грекам, я сказал.
("Филэллин")
Говоря о взаимоотношениях христиан и язычников в эпоху Константина, Кавафис не склоняется ни на чью сторону. Римское язычество — религия светская в том смысле, что ее ритуалы должны обеспечить государству и его гражданам процветание и мир. Не обязательно презирая земное, христианство, однако, всегда подчеркивало, что заботится о другом, нездешнем, почему и не сулило верным процветания при жизни и осуждало непомерную привязанность к успеху как греховную.
Поскольку же обязательные для всех граждан законы заставляли видеть в императоре божество, стать христианином значило стать законопреступником. Поэтому христиане первых четырех веков, подверженные искушениям плоти и дьявола не меньше прочих, воздерживались от мирских соблазнов. Ты мог обратиться, оставшись вором, но не мог, обратившись, остаться аристократом.
Однако после Константина шансы преуспеть в жизни открылись как раз для христиан, тогда как язычники, даже не подвергаясь преследованиям, стали общественным посмешищем.
В одном из стихотворений Кавафиса сын языческого жреца обращается в христианство.
Исус Христос, мой ежедневный труд —
ни в чем не поступаться предписаньями
твоей святейшей Церкви в каждом деле
и в каждом слове, даже в каждой мысли…
Любого, кто отрекся от Тебя,
я сторонюсь. Но я сегодня в горе,
Христос, я плачу о моем отце,
который был — чудовищно сказать! —
жрецом в кумирне гнусного Сераписа.
("Жрец Сераписа")
В другом — император Юлиан прибывает в Антиохию, чтобы проповедовать неоязыческую веру собственного изобретения. Но для антиохийцев христианство давно стало условным обрядом, который они исполняют, не примешивая к нему никаких чувств, а потому они просто потешаются над императором как над старой пуританской кочерыжкой:
Отречься от прелестного порядка
привычной жизни? От разнообразья
дневных утех? От дивного театра?..
Отречься от всего, чтобы прийти — к чему?
К болтанью о неподлинных богах?
К невыносимым самовосхваленьям?
К ребяческому страху перед сценой?
К нелепой важности? К потешной бороде?
Ну нет, они предпочитают "хи",
ну нет, они предпочитают "каппу",
сто раз "каппу".
("Юлиан и антиохийцы")
Надеюсь, цитаты дали некоторое представление о складе речи Кавафиса и его взгляде на жизнь. Если он оказался читателю не близок, я ума не приложу, как тут быть. Поскольку язык создается не отдельным человеком, а социальной группой, о нем удается судить так или иначе объективно. Поэтому, читая стихи на родном языке, можно считать выраженные в них чувства себе чужими, а восхищаться словесной формой. Но в переводе имеешь дело только с образом чувств и либо принимаешь его, либо нет. Мне повезло: я кавафисовский принял.
Каждый писатель надеется (и чаще всего напрасно), что потомки оценят его по справедливости. Ужаснее всего — полное забвение, но есть еще два нежелательных варианта: остаться в веках автором двух-трех всемирно известных произведений, притом что все остальные его детища будут забыты, или же сделаться кумиром горстки ценителей, с придыханием читающих каждое написанное им слово. Первый вариант — явная несправедливость: ведь даже если эти раздерганные на цитаты творения действительно лучшее из всего, что он создал, читатель не имеет возможности судить об этом. На второй вариант стоит обратить внимание, потому что ни один писатель в глубине души не верит, что он такой великий.
Читать дальше


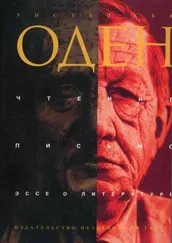


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




