Платону наиболее близким к совершенству представляется самодостаточный человек ("Государство", п, 381). И если мы позволим высказаться за него Аристотелю, последний, в одном из ранних сочинений, утверждает, что совершенное существо ни в чем не нуждается: "Тот, кого отличает самодостаточность, не может испытывать нужды в услугах других, или в их любви, или в общественной жизни, так как он способен находиться в одиночестве. В особенности это относится к Богу. Ясно, что коль скоро Бог ни в чем не испытывает нужды, он не нуждается и в друзьях, и у него их нет" ("Евдемова этика", 1244b).
Было бы, наверное, слишком сурово привносить в это последнее суждение все, что мы могли бы в него привнести. Тем не менее, существует явное противоречие между этим "поглощенным собой объектом безответной любви" (воспользуемся фразой Росса) и большинством христианских понятий: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (От Иоанна, 3:16).
Справедливо, что эрос у Платона нес пророчества и иные послания от Бога к человеку, а также доносил до Бога человеческую любовь и желание. И все же эрос — это поток приобретения, а агапе — это поток жертвования. В ипостаси эроса любовь человека к Богу склонна к стяжательству — это попытка заполучить Его. Впрочем, это наиболее просвещенная разновидность себялюбия: плохие люди не умеют любить себя. В такой любви мы стремимся к собственному благу, и оттого любим Бога только ради самоосуществления. Напротив, в ипостаси агапе любовь направлена вовне, она есть жертвование в чистом виде. Такая любовь не алчущая: любовь "не ищет своего" (Первое послание к Коринфянам, 13:5). И для такой любви Бог есть источник, а не объект — как для эроса. Вся любовь исходит от Бога, изливаясь в любви человека к другим. Она придает людям ценность, без нее они никчемны. Любовь к Богу состоит не в желании Его как объекта, а в том, что мы подчиняемся Его любви. Взамен любви к Нему мы соучаствуем в Его любви к другим людям [548]
Христианство учит: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Кого считать ближним? Того, кто нуждается в тебе. В абсолютном смысле давать может только Бог. Человек неспособен давать в отсутствие нуждающегося, так же как он неспособен полностью отмежеваться от себялюбия. В "Книге Тель" Уильям Блейк предлагает два определения любви: милосердной порождающей любви, присущей миру природы, и более эгоистичной плотской любви между человеческими существами. Блейк говорит об этом и в стихотворении "Я слышал ангела пенье…":
Я слышал ангела пенье,
А день стоял — загляденье:
"Жалость, Согласье, Благость
Превозмогут любую тягость!"
Он пел, исполняя свой долг,
Над скошенным сеном — и смолк
После заката, когда
Бурой казалась скирда.
Над дроком и вереском, братья,
Я дьявола слышал заклятья:
"Толк о Благости вреден,
Коль скоро никто не беден.
Кто счастлив, как наше сословье,
Тем Жалость — одно пустословье!"
От заклятья солнце зашло,
Небес помрачнело чело,
Пришла нищета в одночасье,
С ней — Благость, Жалость, Согласье [549].
Каковы наши потребности? В первую очередь, это голод и жажда — чистые и, естественным образом, корыстные физические нужды. Я съедаю бифштекс и ни с кем не собираюсь делиться. По этой же причине трапеза может быть символом другой противоположности — любви как жертвования. Почему? Еда объединяет нас всех — богатых, бедных, глупых, умных, женщин, мужчин, черных или белых. Если вам хочется узнать кого-то ближе, то вы, в первую очередь, приглашаете человека на обед. Еда сугубо корыстна, и поэтому разделенная трапеза становится символом щедрости и любви. Символ агапе — не плотская любовь, а пища. Именно потому что еда представляет собой первобытный акт, присущий всем живым организмам вне зависимости от вида, расы, возраста, пола и сознания, единственный акт, в продолжение которого мы (коль скоро мы требуем всего и ничего не отдаем) находимся в полном одиночестве, — именно поэтому данный акт и только он один может доказать совершенную взаимозависимость всех существ, доказать, что каждый человек — наш ближний.
Один, поедающий другого, — это символ агрессии, и в "Тимоне" множество таких оральных образов. Когда Тимон приглашает Апеманта отобедать с ним, тот отвечает: "Нет, я не ем вельмож" (I.1). Другие гости хотят "вкусить от щедрости Тимона" (I.1). Апемант замечает: "Какая тьма людей Тимона жрет" (I.2). Тимон говорит Алкивиаду: "Ты бы, конечно, предпочел находиться на завтраке у врагов, чем на обеде у друзей?" Алкивиад отвечает: "Нет яств, которые могли бы сравниться с истекающим кровью врагом! Такого угощения я готов пожелать своему лучшему другу" (I. 2). Позже, в лесу, когда Алкивиад предлагает Тимону золото, тот произносит: "Не надо мне. Оно ведь несъедобно" (IV.3). Тимон грызет корень и восклицает: "Ах, если б в нем была заключена / Вся жизнь Афин, — ее бы я сожрал" (IV. 3). Дикие звери поедают друг друга — Тимон пространно рассуждает об этом в разговоре с Апемантом:
Читать дальше


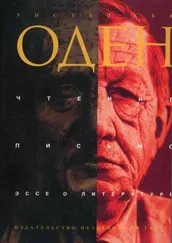


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




