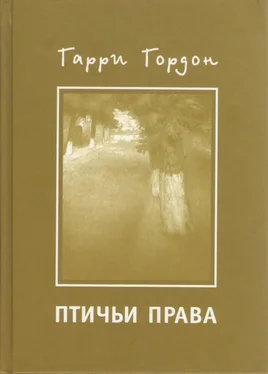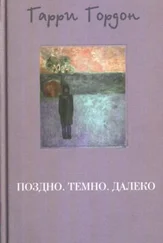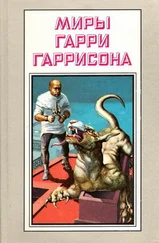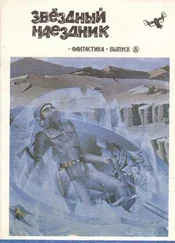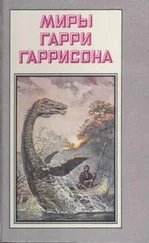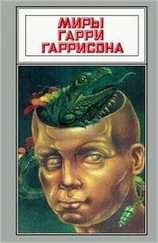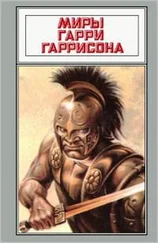Набрав паутины на плечи,
Сквозь лес пробирался, и вот
Набрел на деревню Отречье,
В которой никто не живет.
Какой ископаемой хвори
Хватило на тысячу душ…
Разросся целебный цикорий,
Стояла великая сушь.
Валялись истлевшие сети,
В траве поплавок потухал…
Вдруг треснуло что-то, и светел
Был пламенный крик петуха.
Казалось, падет наважденье,
И в этот заливистый миг
Начнет на крыльцо восхожденье
Бесшумный веселый старик.
Казалось… но в лиственной раме
Краснел, лиловел, клокотал,
Корявыми топал ногами
Петух, наседал на кота.
На новом наречье, на страшном,
Лишенном корней и начал,
Мешая дичайший с домашним,
Проклятия хрипло кричал.
А рядом, на старом погосте,
Степенно, одна за одной,
Как дети, пришедшие в гости,
Могилы стояли стеной.
И глубже поверхностной гнили,
Под слоем пожухшей травы
Усопшие строго хранили
Остывшие печи живых.
Хранили холодные печи,
И ждали — вернутся вот-вот…
Чудная деревня Отречье,
В которой никто не живет.
«Одну секунду будет больно…»
Одну секунду будет больно:
Прищурясь мстительно и зло,
Мой друг, завистник и разбойник
Меня пристукнет за углом.
Я в тайны темные не лезу,
Он обознался. У меня
Авоська, банка майонеза,
Игрушка — мирная свинья
Из розового поролона…
И он глядит ошеломленно
И глаз отчаянных не прячет,
И видит дырку на виске,
И, растопырив пальцы, плачет
В нечеловеческой тоске.
«Стоит воскресный новый год…»
Стоит воскресный новый год,
Безветренный, оранжерейный.
В прозрачном пламенном жиренье
Его вопьет тяжелый плод.
И животворный пар, как пот,
Пар, оперенных ликованьем,
Избавит на год от хлопот
Меж молотом и наковальней.
Теперь я, кажется, смогу
Прибрать поспешности улики,
Как мандариновые блики
В январском елочному снегу.
И в стекла кроткий, как мука,
Стучится кто-то несекомый,
Давно потерянный, искомый
И неопознанный пока.
Под соснами, недалеко от храма,
Где на карнизах ангелы зимуют,
И голуби озябшими ногами
Снуют по перекошенному снегу,
(Гримасы снега в середине марта,
Когда не сходятся концы с концами,
И в воздухе, линяющем и марком,
Еще не пахнет ловкими скворцами),
Под соснами мы сели на скамейку,
Мы сели на скамейку очень прямо,
И руки на колени положили,
Как будто бы стеснялись. Или пели.
В пальто попала капля. Погодя
Скользнул прохожий, сдерживая кашель,
Он был добряк, а может, негодяй,
О том никто наверняка не скажет,
Да он и сам не ведает о том.
Он одинок, и нездоров притом.
Над головой слагали гнезда галки,
Промокшие чернели в клювах палки,
Скрипели крылья настежь, как ворота.
Распахнутая черная ворона
Вся состоит из тяжести и дрожи.
(А гнезда все же на костры похожи).
Опять упала талая вода,
День пополнялся новыми следами,
Не ранние стучали поезда
За смутными чернильными садами.
Мы встали со скамейки и пошли,
Сиреневые руки потирая,
И, очертанья медленно теряя,
Уже едва виднеемся вдали.
«Ночь милосердна. С ней…»
Ночь милосердна.
С ней, Как овцы от ножа,
Все сущее тесней
Сбивается, дрожа.
Не различая каст,
Небесная свеча
Всем во спасенье даст
Соломинку луча.
Но вот за валом вал
Восстала твердь на твердь,
Что мрак навоевал
Во тьме не разглядеть.
Спасались на бревне,
И, вероятно, мы
Распластаны на дне
Девятым валом тьмы.
Еще на миг темней,
И станет различим,
С чьим именем светлей,
И невозможно с чьим
Сомкнуть усталых глаз,
Вкушая плотский мед.
Его усмешка нас,
Как губы, разожмет.
«Среди людей я буду самый старый…»
Среди людей я буду самый старый.
Среди людей я буду самый лысый,
С блаженной византийской головой.
Мне преподносят милые подарки:
Коробка папирос, конфеты, вобла,
И в голове моей сияют мысли,
Как будто в старой церкви — детский сад.
Читать дальше