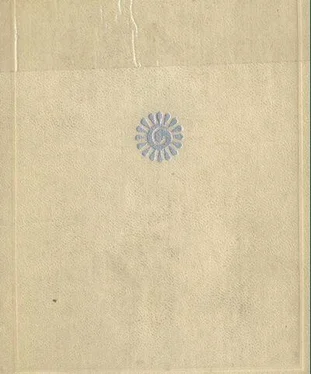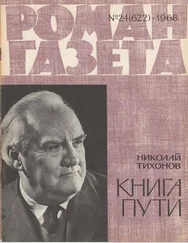Но ты, моя чудесная тревога,
Взглянув на небо, скажешь иногда:
Он видит ту же лунную дорогу
И те же звезды, словно изо льда!
Едва плеснет в реке плотва.
Листва прошелестит едва,
Как будто дальний голос твой
Заговорил с листвой.
И тоньше листья, чем вчера.
И суше трав пучок,
И стали смуглы вечера,
Твоих смуглее щек.
И мрак вошел в ночей кольцо
Неотвратимо прост,
Как будто мне закрыл лицо
Весь мрак твоих волос.
Стих может заболеть
И ржавчиной покрыться,
Иль потемнеть, как медь
Времен Аустерлица,
Иль съежиться, как мох,
Чтоб Севера сиянье —
Цветной переполох —
Светил ему в тумане.
И жаждой он томим,
Зарос ли повиликой,
Но он неизгоним
Из наших дней великих.
Он может нищим жить,
Как в струпьях, в строчках рваных,
Но нет ни капли лжи
В его глубоких ранах.
Ты можешь положить
На эти раны руку —
И на вопрос: «Скажи!» —
Ответит он, как другу:
«Я верен, как тебе,
Мое любившей слово,
Безжалостной судьбе
Столетья золотого!»
«Мой город так помолодел…»
Мой город так помолодел —
Не заскучать,
И чайки плещутся в воде,
Устав кричать.
И чаек крылья так легки,
Так полны сил,
Как будто душу у реки
Кто подменил.
И самолетов в вышине
Горят круги.
Я слышу в синей тишине
Твои шаги.
Как будто слух мой стал таков,
Что слышит сон,
Как будто стук твоих шагов
Заворожен.
Как будто губ твоих тепло.
Прохладу плеч
На крыльях чаек принесло
— Сюда — беречь.
Иль ты одна из этих птиц
Сама,
И мне по ней в огне зарниц
Сходить с ума!
«Я снова посетил Донгузорун…»
Я снова посетил Донгузорун,
Где лед светил в реки седой бурун.
Остры, свежи висели вкруг снега,
Я видел: жизнь моя опять строга,
И я опять порадовался ей,
Что можно спать в траве между камней,
И ставить ногу в пенистый поток,
И знать тревогу каменных берлог.
В глуши угрюмой, лежа у костра,
Перебирать все думы до утра.
И на заре, поднявшись на локте,
Увидеть мир, где все цвета не те…
…Намеченный смело
Над зыбью полей
Светящимся мелом
По аспидной мгле…
Вычерчивал мастер
Во весь небосклон
Его, как на части
Разбившийся сон.
Чертил он и правил
Снега, как рассказ,
И гору поставил,
И вывел на нас.
И падал кусками,
И сыпался мел,
Но гору на память
Он кончить сумел!
«Женщина в дверях стояла…»
Женщина в дверях стояла,
В закате с головы до ног,
И пряжу черную мотала
На черный свой челнок.
Рука блеснет и снова ляжет,
Темнея у виска,
Мотала жизнь мою, как пряжу
Горянки той рука.
И бык, с травой во рту шагая,
Шел снизу в этот дом,
Увидел красные рога я
Под черным челноком.
Заката уголь предпоследний,
Весь раскален, дрожал,
Между рогов аул соседний
Весь целиком лежал.
И сизый пар, всползая кручей,
Домов лизал бока,
И не было оправы лучше
Косых рогов быка.
Но дунет ветер, леденея,
И кончится челнок,
Мелькнет последний взмах, чернея,
Последний шерсти клок.
Вот торжество неодолимых
Простых высот,
А песни — что? Их тонким дымом
В ущелье унесет.
Здесь ночи зыбкие печальны,
Совсем другой луны овал,
Орлы, как пьяницы, кричали,
Под ними падая в провал.
И взмах времен глухих и дерзких
Был к нашим окнам донесен,
Перед лицом высот Кегерских
Гулял аварский патефон.
Тревогу смутную глушили
И дружбой клялись мы навек.
Как будто все мы в путь спешили,
Как будто ехали в набег.
Из пропасти, как из колодца,
Реки холодной голос шел:
«Не всем вернуться вам придется,
Не всем вам будет хорошо…»
А мы смеялись, и болтали,
И женщинам передавали
Через окно в кремнистый сад,
Огромной ночью окруженный,
Стаканы с тьмой завороженной,
Где искры хитрые кипят.
Читать дальше