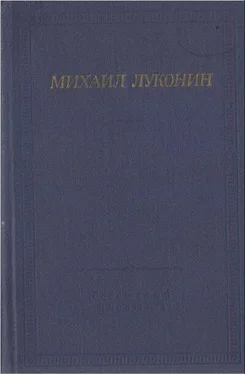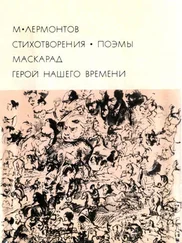1965
Дом друга моего — он над Курой.
В нем две хозяйки властвуют —
две Нины.
Одна мне мать —
мы перед ней повинны.
Другую Нину я зову сестрой.
Две женщины грузинские в дому —
мать и жена грузинского поэта.
Поэзия!..
Да я и не про это.
Я говорю о них не потому.
Всё в хлопотах,
в трудах своих старинных…
Я не скажу, пожалуй, ничего
о ежедневном подвиге незримом,
лишь женщины способны на него.
Я не об этом.
Одарят добром
улыбок и приветствий —
хорошо нам.
Положено быть радостными женам,
всё остальное —
на себя берем.
Да, на себя берем.
Я не об этом, —
берем, бывает,
лишнее подчас.
Как бескорыстно светят нашим светом!
Без зависти
их радости за нас.
Две женщины, две Нины,
здесь в дому.
Мы славим сень спокойного уюта.
А Нины улыбаются чему-то
великому,
чему-то своему.
Мы умные, оглохшие от гула,
талантливые, —
ходим не спеша.
Нам невдомек,
что силу в нас вдохнула
таинственная женская душа.
И если нам задуматься придется,
увидим вдруг,
что звуки и слова —
всё, что потом поэзией зовется, —
всё
в их сердцах
рождается сперва.
1965
110. «Падает снег, плещется…»
Падает снег, плещется,
вьется у самой форточки.
В белой крупе мерещатся —
точки,
кружочки,
черточки.
Падают вниз на деревца,
на травы, еще шумящие,
снежинки!
Сперва не верится,
как будто не настоящие.
Теряется лето, — где ж оно?
Наново всё побелено.
Солнечно
и заснеженно, —
сразу —
бело
и зелено.
А там, за Тбилиси,
вьюжится
над эвкалиптами зяблыми.
Ловят белые кружевца,
развеселившись, яблони.
Лежит белизна рассветная.
Под снегом теплеют озими.
Дышит земля,
согретая
виноградными лозами.
Снежинки летят неслышные.
В ущелье Боржоми — з а мети.
Бакуриани лыжные
рады зиме без памяти.
Хожу по горе-лестнице,
впервые зимой в Грузии.
Летние дни и месяцы
мне горизонт узили.
Впервые — тепло зимнее,
впервые зима южная.
Небо почти синее,
солнце совсем вьюжное.
Эта зима та самая,
как прежде, до боли близкая,
конькобежная, санная,
родная моя, российская.
Это я сам навстречу весне
слетаю лыжнею волглой.
Это я сам,
будто во сне,
стою
над родимой Волгой.
1965
По Тбилиси ходит пара,
необычная на вид.
Вдоль веселого бульвара
оживление царит.
Вроде парочки влюбленной,
вроде нет,
не разберем,
или воин ослепленный
с девочкой-поводырем.
Вот афиши:
«Цирк в Тбилиси!»
Ну, понятно,
погляди —
эти двое в страшной выси
кувыркаются, поди.
Непохожие, другие.
Он идет,
поет слова,
бицепсы его тугие
распирают рукава.
Он идет походкой веской,
а она совсем не то —
фея в шапочке жокейской,
в черном кожаном пальто.
Цокот этих ножек черных,
светлый блеск веселых глаз
жителей высокогорных
останавливают враз.
Вон заходят в магазины —
мы у входа постоим.
Любят зрелище грузины,
улыбаются двоим.
По Тбилиси ходят двое.
Не видать со стороны,
что звенящей тетивою
двое те сопряжены.
Что его томит усталость,
что ее уносит ввысь.
Это молодость и старость
поздно за руки взялись.
Что тоска их укачала
и прощаются сердца.
Что у этого начала
не предвидится конца.
1965
112. ПРОШЛОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
На проспекте Руставели
в галерее —
тишина.
Поглядеть мы захотели,
чем порадует она.
«Санитарный день, простите?
Выходной? Переучет?
Я приезжий,
вы пустите».
— «Что ж,
приезжему почет,
если так уже влечет».
Краски неба!
Краски моря!
Краски ночи!
Краски дня!
Настроенью жизни вторя,
захватили вдруг меня.
На стенах — впритык картины,
примостившись на полу,
прислонившись в уголке,
чуть ли не на потолке.
Коридор пустует длинный…
Только трое,
только трое
ходят у меня в тылу.
«Не мешайте, посторонний», —
говорит один из них.
«Почему же посторонний,
я ведь
не потусторонний,
я, товарищ, из живых!..»
— «Вы шутник!» — сказал другой.
Женщина сказала:
«Фронда!
Мы комиссия, а вы-то,
вы, товарищ дорогой,
из союзного худфонда?..»
И застыла деловито
перед девушкой нагой,
дробно стукая ногой.
«А комиссия при чем,—
спрашиваю, — что случилось?»
— «Отбираем!
Вот наивность!»
И оттер меня плечом.
«Но за что? Не верю всё ж.
Отпираете, наверно?»
Старший встрепенулся нервно:
«Отбираем молодежь,
отбираем, — говорит, —
скоро выставка. Понятно?»
И пошел,
шепча невнятно:
«перспектива»,
«колорит»…
У меня во рту горит.
Читать дальше