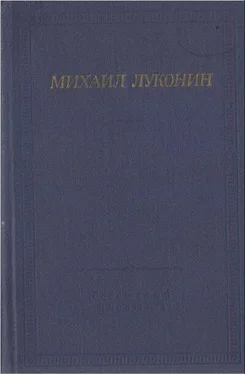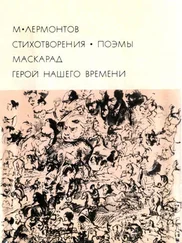Жилет раскинув меховой,
я по вагону, напоказ,
пошел походкой фронтовой.
Я был во всей своей красе
(блестит на левой стороне!).
«Оттуда? — спрашивают все. —
Да, тяжело вам на войне…»
Шел, улыбался и кивал,
молодцеватый и прямой.
«В боях бывали?»
— «Да, бывал».
— «Куда же едете?»
— «Домой!»
— «Из госпиталя? На, сынок…»
Беру, жую мякинный кус.
«Кури».
Глотаю я дымок,
соломой отдает на вкус.
«Ложись, устал…
Мы ничего,
мы тут пристроимся в углу.
У вас там трудно с ночевой,
мы перебьемся. Мы в тылу».
— «Ложись и спи…»
— «Слаба кирза,
как они там зимой, в бою!» —
Прикрыла женщина глаза,
упрятав ноги под скамью.
«Спи…»
А колеса всё галдят.
«Спи…»
— «Все живем одной бедой».
— «Спи. Исхудал-то как, солдат…»
1942
Получил письмо я:
«Как живете?» —
спрашивает Соня Милиоти.
Это даже странно — «как живу»,
не спросила первая «живу ли?»,
не упал ли я от медной пули
желтыми глазами в синеву.
Жив ли я? Живу я?
Всем в ответ
шлю, углом листочки запечатав.
«Жив!» — кричат мне тысячи примет,
Пусть про это скажет Наровчатов.
Метились в меня.
Сидели в доте.
Танки гнали. Мерзли. Ни к чему —
я хожу, шепчу слова, живу.
«Как живу?» — спросила Милиоти.
Так поверила в мою звезду,
знает — жив, мне жить необходимо,
значит — мины мимо, пули — мимо.
Значит, верит — я еще приду!
Мну сугробы и топчу траву.
Ты спроси,
ревнуя и тоскуя!
как живу?
О чем?
За что живу я?
Чем живу?
Спроси — о ком живу?
1942
12. «Перед боем на рассвете…»
Перед боем на рассвете
тишина.
И, как бывало,
по испытанной примете
нам кукушка куковала.
Мне года узнать охота —
дай, кукушка, мне ответ:
жить на этом белом свете
сколько мне осталось лет?
Только тут
из пулемета
очередью грянул кто-то.
Я прислушивался —
нет,
нет моих веселых лет.
Свистнули по свету пули,
и опять пошла война.
Не считается —
спугнули!
Не кукушкина вина.
Я не признаю ответа.
У кукушки не всегда
получаются года.
Как ты смотришь?
Ерунда,
правда?
Глупая примета.
1942 или 1943
Пленный пляшет.
Молодой еще немец.
Руки в рукава,
подняв невысокий ворот.
Ночь идет по Ельцу,
не успевая за теми,
что в атаку идут, открывая задымленный город.
Дом полуразрушен.
Рассвет освобожденье приблизит.
Толпятся разведчики, бодрствующие ночами.
Пришли с донесением к командиру дивизии,
за столом —
начальник политотдела Качанов.
Он слушает донесения и спрашивает: «Скоро?»
Скоро город будет освобожден.
Ожидая допроса,
в зеленых шинелях
в полутьме коридора
пляшут словоохотливые пленные,
шмыгают носом.
Город осыпается трескотней пулеметной.
Автоматчики у тюрьмы, засели на колокольнях.
Город наш. Рассвет начинается. Вот он!
Люди выходят, прищуриваясь невольно.
Пленный жмется к стене,
а разведчики — мимо.
Автоматчик с забинтованной рукою
покуривает рядом.
«Что, замерз? У нас на Орловщине зимно!
Идем к командиру»,—
и показывает прикладом.
Город освобождается. Уставший. Продымленный
за ночь.
Пленный глядит на людей, как на диво.
Пляшет и пляшет, заискивая глазами.
«Капут, капут», — повторяет он торопливо.
«Брось скулить! —
говорит автоматчик.—
Надорвешься до грыжи.
„Капут“ — не подлизывайся,
привычка, наверно.
„Капут, капут“ — и пододвигается ближе: —
А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?»
1941 или 1942
14. «Иду. Решаю. Передумываю то и дело…»
Иду.
Решаю.
Передумываю то и дело.
А лето цветное проходит мимо.
Вспоминаю о том,
как умирают смело,
но — жизни
тоже
смелость необходима!
Жизни тоже мужество надо,
не поза.
Я помню, как, захватив две гранаты,
к «тигру»,
оборвав себя на полуслове,
вышел Морозов,
и дымом окутался танк полосатый.
Все-таки странно — разные люди,
прямо приходится удивляться:
одни
на танки выходят грудью,
другим
не хватает силы признаться.
Третьи —
тоже военные,
в звании,
ходят, волнуются, не спят до пяти,
мямлят,
топчутся с кулаками в кармане
и не находят мужества
просто уйти.
Иду.
Удивляюсь.
Глаз от бессонницы розов.
Фронтовая дорога,
подбитые танки во рву.
Дай мне силы,
командир отделенья Морозов.
Постой. Я справлюсь.
Возьму и взорву.
Читать дальше