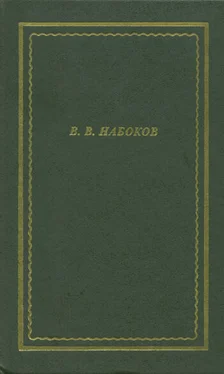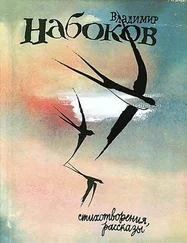Скончавшийся автор и обманутый читатель — вот неизбежный итог претендующих на художественность переложений. Единственная цель и оправдание перевода — дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причем с комментарием. {115}
Набоков даже посвятил шуточное стихотворение, написанное в марте 1952 года, переводческому труду и предательнице-рифме:
Rimes
Pity the elderly gray translator
Who lends to beauty his hollow voice
And — choosing sometimes a second-rater —
Mimes the song-fellow of his choice.
The sacred sense for the sake of meter
He is seldom traitor as traitors go,
But pity him when he quakes with Peter
And waits for the tertia rima to crow.
It is not the head of the verse line that'll
Cause him trouble, nor is it spine:
What he really minds is the cirsoid rattle
That must be found for the tail of the line.
Some words by nature are sort of singlish,
Others have harms of rimes. The word
«Elephant», for example, walks alone in English
But its' Slavic equivalent goes about in a herd.
«Woman» is another famous poser
For none can seriously contemplate
An American president or a German composer
In a viable context with that word for mate.
Since rime is a natural repercussion
(And a local holyday), how bizarre
That «skies-eyes» should twin in French and Russian:
«Cieux-yeux», «nebesб-glasб».
Such boons are irrelevant. Sooner or later
The gentle person, the mime sublime,
The incorruptible translator
Is betrayed by lady rime.
And the poem from the Russian
And the sonnet spun in Spain
Perish in the person's version,
And the person dies insane.
(Berg Collection)
Как показал Александр Долинин, {116} набоковский перевод «Евгения Онегина» служит не только способом привлечь внимание читателей к пушкинскому оригиналу, но имеет и специфическую эстетическую функцию: разительным контрастом между частыми синтаксическими неловкостями и странным словоупотреблением, за которое его упрекали критики, с одной стороны, и «теснотой стихового ряда» в пределах каждой строки, частым сохранением звуковой игры и ямбического размера оригинала, с другой стороны, Набоков создает эффект остранения пушкинского текста как частично переводимого на иностранный язык.
О четырнадцати написанных по-английски стихотворениях из «Poems and Problems», по словам самого автора, «мало что можно сказать <���…> у них более легкая текстура, чем у русской ткани, что связано, вне всякого сомнения, с тем, что в них нет внутренних словесных ассоциаций со старыми недоумениями и постоянного беспокойства мысли, которые свойственны стихотворениям, написанным на родном языке, когда изгнание непрерывно бормочет рядом и без разрешения, как дитя, дергает за твои самые ржавые струны» (Poems and Problems. P. 14–15). Эти лишенные русской тени стихи не привлекли ничьего внимания, в обзорных статьях о них говорят одно и то же: Филипп Дюпре отметил, что романы Набокова полны рефлексов его поэзии, «эти рефлексы часто очень важны, стихи — по крайней мере английские — неважные, в той степени, в какой стихи могут быть неважными и все же оставаться интересными»; {117} Томас Экман иронически объясняет легкость английских стихов Набокова тем, что они предназначались для «Нью-Йоркера»: «…это не большая поэзия, но в них есть остроумие, изобретательность и подлинное владение языком. <���…> основной элемент этих забавных английских стихотворений — рифма, которой он <���Набоков> владеет с очевидной легкостью…». {118}
Не только английские, но и русские стихотворения Набокова последних лет его жизни, в основном не предназначавшиеся для печати, носят альбомный характер (to Vèra) — как, например, «С серого севера» или:
Верочке
Когда мир был молод,
Как любили мы
Мраморный холод
Итальянской зимы!
(Абано, 7-го января 1965-го года) {119}
К Вере также обращено и последнее (в сборнике 1979 года) стихотворение Набокова:
Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.
Только ты, только ты всё дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам…
N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом…
Мы не будем настаивать на том, что Владимир Набоков (Сирин) — большой поэт, но он, несомненно, поэт забытый. Его подчеркнуто консервативная, традиционалистская позиция «младшего» поэта на раннем этапе поэтической эволюции достаточно удивительна на фоне его оригинальности и новаторства в прозе. Новая — эклектичная, раскованная — поэтика немногих стихотворений и поэм, написанных им с начала 1930-х годов, действительно, еще далеко не оценена и совсем не изучена, об этом пишет Омри Ронен: «Поэт Сирин сам был в некотором смысле похож на Перова (героя рассказа „A Forgotten Poet“. — M. M. ): создатель зрелой поэтики, стоящей особняком в русской поэзии XX в., одинокий художник, реализовавший лишь малую толику своего потенциала, чье творчество только теперь начинают ценить любители поэзии». {120}
Читать дальше