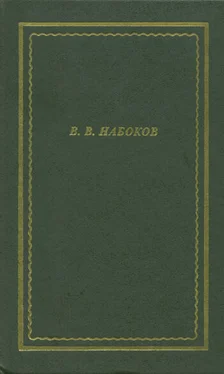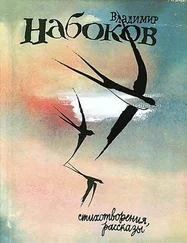Можно предположить, что стиль нереализованной, заглохшей ветви русской поэзии, который пробует Набоков в своих литературных мистификациях, был элементом становления его собственной новой поэтики, воплотившейся в построенных в форме диалога неназванных персонажей «Славе» (1942) и «Парижской поэме» (1944). Новая поэтика состоит в более раскованном пользовании разными поэтическими образцами для их пародирования, антипародирования и эмуляции (раньше такие непрямые способы ассимиляции «чужого слова» были характерны только для прозы Набокова — в противоположность подчеркнуто «верному» ученичеству поэзии у классических образцов), в том числе и ранее враждебных направлений — «парижской ноты» («Парижская поэма»), Маяковского («О правителях»), Пастернака («Как я люблю тебя», «Слава»). «Парижская поэма» написана намеренно темно, с опущенными связками, в жанре, близком к характерной для русской поэзии «в метрополии» большой поэмы «с ключом», от «Форель разбивает лед» М. Кузмина до «Поэмы без героя» А. Ахматовой. {100} «Парижская поэма» Набокова, видимо, скрывает не столько зашифрованные персоналии и биографические обстоятельства, сколько литературные и биографические претексты, с которыми ведется напряженный диалог, причем поэт попеременно то говорит «своим голосом», то «пересаживается» в собеседников, отсюда возникает симфонический эффект. Современники, скорее всего, сразу прочитали поэму именно в таком коде — как приглашение к активному читательскому участию в экспликации зашифрованных смыслов: Роман Гринберг пишет Набокову в письме от 1944 года о том, как у него в гостях Юлиан Тувим читал Эдмунду Уилсону «Парижскую поэму»:
Он читал очень хорошо, и по мере того, как он читал, у всех непомерно росло радостное возбуждение. Отдельные места перечитывались по нескольку раз. Спрашивали, допытывались, догадывались, изумлялись, охали, спорили, не соглашались и опять начинали все сначала. Все сразу помолодели лет на двадцать. На этаже царил энтузиазм сходки Нар<���одной> Воли.
(письмо от 22 апреля 1944 года Сообщено Г. Б. Глушанок).
Полифония, впечатление бормотания, невнятицы, в которых при первочтении только брезжит смысл, видимо, имитирует также и сам процесс сочинения стихотворения: в комментарии к публичному чтению «Парижской поэмы» в 1949 году Набоков, отвечая на упреки в «туманности» стихотворения, пояснил: «Оно станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брежжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (Стихи и комментарии. С. 82. Ср. описание поэтического вдохновения из «Дара»: «…божественное жужжание <���…> разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха» (Набоков IV. С. 241)). Мы не делаем здесь попытки подробного анализа поэмы, отметим только некоторые элементы, которые кажутся важными. В перечислении имен в начале: «И подайте крыло Никанору, / Аврааму, Владимиру, Льву — / смерду, князю, предателю, вору» — которое как будто приглашает к дешифровке, — имя автора, Владимир, по наблюдению А. А. Долинина, параллельно «предателю», что, возможно, вводит тему предательства Набоковым родного языка и судьбы русского поэта (ср. в английском стихотворении «The Evening of Russian Poetry» (1945): «Бессоница, твой взор уныл и страшен; / любовь моя, отступника прости»). Напряженные и невнятные призывы «отвести», «не бросать», «позаботиться» «пожалеть», «спасти» каких-то «прохвостов», «стариков», «всю ораву», возможно, вводят en sourdine мотив вины и сочувствия Набокова как к соотечественникам на родине, так и к оставшимся в европейской эмиграции русским, о судьбе которых тогда, в начале войны, еще не было известно. Видимо, из числа русских эмигрантов Набоков выбирает наиболее неприятного для себя, но несомненно «знакового» Г. Иванова: Омри Ронен считает, что «Парижская поэма» является антипародией «Распада Атома» Г. Иванова, который «сам распадается в набоковском стихотворении под бомбардировкой сопоставлений с последней стадией деградации русской поэзии и души — графоманом и преступником Горгуловым». {101} Набоков, как предполагает Ронен (в письме к нам), отвечает на следующий пассаж из «Распада Атома» (1938):
Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро проступят звезды. Звезды тридцатых годов двадцатого века. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот… {102}
Читать дальше