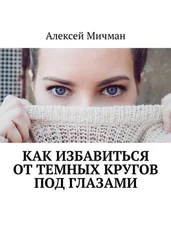Потом, когда тот подошел к нему вплотную, заговорил оживленно и фамильярно:
— Ну что, старина, все томишься? А чего твоему Мускату сделается! Чудной ты человек, хозяин, право слово, чудной! Все вы — татары, калмыки, киргизы — лошадь, бесперечь, больше человека почитаете…
Бригадир нахмурился, пожевывая углом скошенного рта коротенькую трубочку и, хотя она у него потухла, все еще ею попыхивая.
— Пхы-пхы. Ты сам — старуха старая. И ты мне шутить ненада. И ненада тебе меня хозяин звать. Все хозяин, кто хорошо работает. И ты хозяин. Хорошо работай, и ты хозяин! Пхы-пхы…
Раскосые монгольские глаза его строго глядели наГлюкова.
— Беспокоиться нада. Пхы-пхы. Мускат цена нет! Мускат ой… беречь нада! Плохо ты, старуха старая, ходишь за Мускат, плохо ходишь…
— Ну и чудной ты, я говорю, Нафитулан, чудак ты человек, ей богу! Ну что ж, что мы с тобой старухи старые! Небось ты-то постарше меня годов на пять будешь?
Бригадир досадливо отвернулся от Глюкова и, прищурясь, заглянул в теплый полумрак денника, где в мягких тенях был виден мощный круп породистого жеребца. Оглядел денник. Принюхался к воздуху. И так нахмурился, что гладко выбритое лицо его, обветренное горячими степными суховеями, избороздилось морщинами.
— Вот нюхай, нюхай, старуха! Пхы-пхы. Спиртом в нос шибает. Плохо чистишь, плохо…
Глюков ничего не ответил.
Прошли в денник — к жеребцу. Нафитулан поднял руку, чтобы потрогать его ноздри, — не слишком ли сухи и горячи, — но тот испуганно шарахнулся в сторону и стал тревожно перебирать точеными ногами. Нервная дрожь пробежала по всему его нежному со светлой рыжинкой атласу. Старик-татарин вздрогнул:
— Ай, скверное дело! Скверное дело! Мускат мой рук никогда не боялся…
Старик-конюх ласково засмеялся:
— Хе-хе! Ничего! Вишь ты, как она в нем чистая-то кровка играет! На случной баз его. По кобылке жеребчик млеет. Хе-хе!..
Нафитулан, думая, что успокоит коня, слегка похлопал его по крупу, но конь, угрожающе всхрапнув, с силой наподдал задом.
Бригадир вовремя успел отскочить в сторону и в крайнем недоумении развел руками.
Что-то странное творилось с хорошо выдержанным и ручным кабардинцем Мускатом.
Нафитулан поглядел попеременно — то на конюха, спрятавшего в большие усы усмешку, то на волнующуюся лошадь и вдруг, выхватив изо рта трубку, яростно закричал:
— Ах ты, старый махан, старуха старая! Тебе за старый кобыл ходить. Мускат! Кха… — Старик закашлялся. — Мускат цена нет! Цена нет! А ты-ы… Ты-ы…
Старик внезапно остановился, очевидно решив повременить говорить о том, в чем еще не был уверен. Так с гневно раскрытым ртом, оскалив крепкие зубы, стоял он и сверлил глазами Глюкова.
Тот, в свою очередь, не мигая, глядел в сверкающие глаза Нафитулана. Потом не выдержал — отвернулся.
Бригадир вложил в рот трубку, и снова озабоченное лицо его избороздили сухие, сетчатые морщинки. Молча и быстро пошел к выходу. У дверей конюшни неожиданно остановился и, не оборачиваясь, стал думать вслух, бормоча тревожной и пыхающей скороговоркой:
— Ветврач нада! Пхы-пхы. Нада! Нада! Да, да!
Пхы-пхы. Нада!
Он жестикулировал руками и покачивал бритой большой головой в крошечной тюбетейке на мощном и лоснящемся куполе макушки. И уже про себя додумывал, как он завтра же с раннего утра, чуть свет, пустится верхом разыскивать ветеринарного врача, который у них один на весь район. Закончил Нафитулан опять вслух и сердито, как бы кому угрожая:
— Мой найдет! Найдет! Пуская Муската глядит! Пхы-пхы. Пуская глядит!
И, обернувшись к Глюкову, решительно и гневно запыхал:
— Пхы-пхы. А тебя нада отставить от Мускат! Прочь! Прочь. Ты старых махан, старуха старая! Пхы-пхы…
и пошел медленно и неохотно, озабоченный и раздраженный.
Глюков смотрел ему вслед угрюмо.
* * *
Мускату, породистому жеребцу-кабардинцу, с первого же дня не приглянулся новый конюх-старик, сменивший заболевшего молодого калмыка Санько Якушнова, который любил Муската глубоко и сосредоточенно, по-калмыцки. Минуты рассчитывал он, ухаживая за лошадью. Был точен, как часы, и ровноласков. И как понимал и чувствовал эти неоценимые достоинства конюха Мускат. Черносливами огромных бархатных глаз, их теплым и ровным светом, сиял он на Санько Якушнова, когда тот со всех сторон обходил его — стройного, стремительного и легкого. И тогда покидала Санько его ровность, и он с силой притягивал к себе упругую, мускулистую шею лошади и прижимался к ней гладким шаром своей бритой головы. И восхищенно блестели желтые, как крашеные, зубы Санько. И лицо его, на всю жизнь обожженное степным солнцем, сияло.
Читать дальше
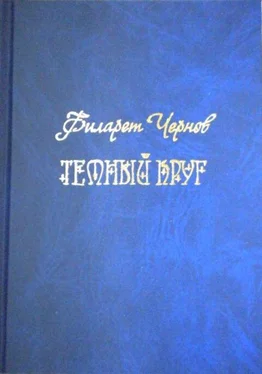
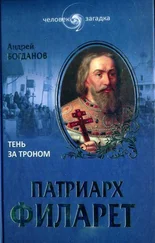

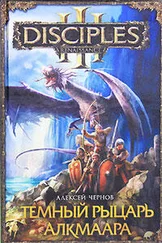

![Александра Лисина - Темный маг [Истории - 7. Темный маг, 8. Последний бог] [litres]](/books/407406/aleksandra-lisina-temnyj-mag-istorii-7-temnyj-m-thumb.webp)
![Евгений Красницкий - Отрок. Ближний круг - Ближний круг. Стезя и место. Богам – божье, людям – людское [сборник litres]](/books/409214/evgenij-krasnickij-otrok-blizhnij-krug-blizhnij-kr-thumb.webp)
![Алистер Маклин - Темный крестоносец [Черный сорокопут Черный крестоносец]](/books/421955/alister-maklin-temnyj-krestonosec-chernyj-sorokopu-thumb.webp)