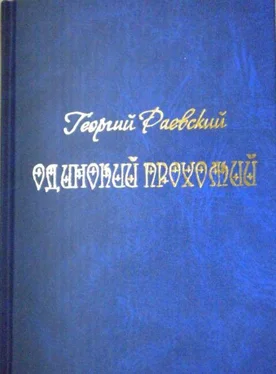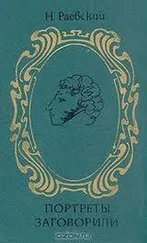Не хрустальный бокал, не хиосская гроздь,
А стакан и простое вино;
Не в пурпурной одежде торжественный гость —
В тесной комнате полутемно,
И усталый напротив тебя человек
Молчаливо сидит, свой же брат,
И глаза из-под полуопущенных век
Одиноко и грустно глядят.
Ты наверное знаешь, зачем он пришел:
Не для выспренних слов и речей.
Так поставь же ему угощенье на стол
И вина неприметно подпей.
Может быть, от беседы, вина и тепла
Отойдет, улыбнется он вдруг, —
И увидишь: вся комната стала светла,
И сияние льется вокруг.
(Сб. «Эстафета»).
<���… >
«Новый журнал». Нью-Йорк. 1950, № 23.
Екатерина Таубер. О поэзии Георгия Раевского
(Г. Раевский: «Новые стихотворения». 1946 г., «Третья книга». 1953 г.)
Отличительной чертой поэзии Георгия Раевского является ее одержимость одной идеей. Идея эта религиозная. Поэзия для Г. Раевского — служение высшему. Отсюда ее строгость, торжественность, ее сакральный характер. Поэт и сознательно, и бессознательно захвачен христианством, в кротком свете которого стираются противоречия, одухотворены и оправданы все явления жизни. В современной эмигрантской поэзии он почти одинок. Поэзия его преимущественно волевая, никак не стихийно-иррациональная. Он не дает над собою силы этому иррациональному, не позволяет разбудить, несмотря на свою близость к Тютчеву, «неистовые звуки». Он всецело принадлежит неоклассической традиции и от поэзии он хочет одного:
Дай бесстрастьем вдохновиться,
Холодом и чистотой…
При всем своем благородстве и высокой устремленности, он всегда немного стоит на пьедестале. В своих удачнейших стихах Г. Раевский достигает большой силы, высокого пафоса и затрагивает лучшее в человеческой душе. Но в более слабых он бывает порою рассудочен и дидактичен.
Но поэта надо судить по лучшему, что им создано, а не по его неудачам.
Чувство одиночества, столь характерное для его современников, органически чуждо Г. Раевскому. В том его стихотворении, где
…домов доверчивое стадо
Ведет торжественный собор…
как не случаен для него эпитет «благополучный». Он относится тут к «урожаю», но символически его можно бы было поставить ко всей его поэзии. И совсем не потому, что он не ощущает и не видит страданий, а потому что
…Всё устроено мудро и дивно:
Мгла и холод, и свет и тепло,
И шершавые листья крапивы,
И торжественной птицы крыло.
Станут волны кристаллами соли,
А густая смола — янтарем.
Станет горькая память о боли
Светлой памятью в сердце твоем.
И еще потому, что он хорошо знает, что:
…грозной круговой порукой
Мы связаны, и не дано
Одним томиться смертной мукой,
Другим пить радости вино.
Не страшит его и собственное злорадное и пророческое:
Ты думаешь: в твое жилище
Судьба клюкой не постучит?..
Вспоминая об этой «клюке», он, вероятно, думает и о тех, которые когда-нибудь, так же, как он сейчас, скажут друг другу:
Сядь сюда, ко мне — и вместе
Тех мы вспомним в этот час,
О судьбе которых вести
Больше не дойдут до нас…
Всё его существо пронизано «соборностью», «преодолением раздельности земного бытии». И только в этом смысле решаюсь я назвать его поэзию «благополучной». Ведь жизнь каждого подлинного христианина, несмотря даже на «венец мученический», в каком-то высшем смысле глубоко «благополучна». «В тихой заводи все корабли», как когда-то сказал А. Блок, тоскуя и не веря этой «заводи».
Но на мирном оптимизме Г. Раевский не успокаивается.
В личной жизни человека «клюка судьбы». А вот это уже относится ко всему нашему поколению и тематически сближает этот цикл стихов Г. Раевского с «Европейской ночью» В. Ходасевича и со «Стихами о Европе» А. Ладинского. Раевский горестно констатирует:
Европа, угрюмо и страшно
Ты гибнешь, ты тонешь: вода
Твои исполинские башни
Готова покрыть навсегда.
Но с веткой масличною птица
Не будет, слетев с высоты,
Над верным ковчегом кружиться:
Его не построила ты.
Для него уже давно: «Дома горят, отечества горят», и ясно, «С какими силами, забыв о небе, мы заключили искренний союз».
Но констатируя, он идет и дальше. И вывод его все тот же, пронизывающий всю его поэзию:
Не стоит с жадностью такой
Так страстно ставить на земное:
Ты не возьмешь его с собой.
Читать дальше