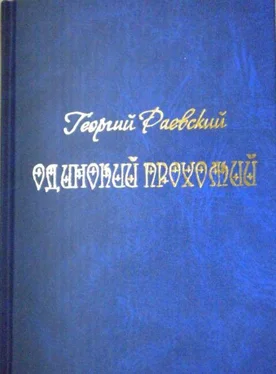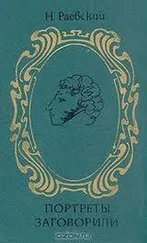<���…>
Газета «Последние новости». Париж. 1931, № 3725.
Владимир Набоков. Рецензия на альманах «Перекресток» 2
Париж; «Сборник стихов», гадание парижского Союза молодых поэтов и писателей. Париж.
<���…> Георгий Раевский, в отличие от почти всех поэтов в обоих сборниках, — зрячий, смотрит на мир, а не в туманную глубину собственного эго, очень недурно его стихотворение «Голландская печь» — двенадцать двустиший-изразцов. Например: «Двое за круглым столом сидят за кружками; кости мечет один, а другой трубкой стучит о сапог». Или: «Палкою с дуба старик сбивает желуди. Свиньи сбились в кучу. Одна грустно в сторонке стоит». (Но есть тут и небрежность: сбивает — сбились, — как, впрочем, в строфе другого его стихотворения: «По осенним, по сжатым полям с сердцем сжатым задумчиво шли мы».) «Голландскую печь» портит заключительное двустишие, в котором есть что-то ландриновское.
<���…>
Газета «Руль». Берлин. 1931, 28 января.
Лидия Червинская. Рецензия на альманах «Перекресток» 2
<���…> Есть в сборнике одно стихотворение, которое странно сопротивляется воле читателя. Оно живет отдельно от автора и не похоже тоном на другие стихи Георгия Раевского. Привожу последние строки:
…И далекий, печальный, равнинный,
Ветер бедную песню тянул:
Как прощаются, как расстаются,
Как уходят; как долго потом
Паутины прозрачные вьются
Ясным вечером в поле пустом.
Сами собой, неизвестно почему, приходят на память эти стихи. (Едва ли не лучшее, что можно сказать о стихах вообще). Почему? Потому, может быть, что так и пишутся лучшие стихи:
«Как прощаются, как расстаются, как уходят; как долго потом…». Ни о чем, как будто бы.
«Числа». Париж. 1931. № 5.
Марк Слоним. Парижские поэты
(Присманова А. «Близнецы»; Мамченко В. «Звезды в аду»; Раевский Г. «Новые стихотворения»)
<���…> И отвлеченные образы Присмановой, и непросветленные лирические метания Мамченко проникнуты духом безнадежности. В известном смысле им можно противопоставить сборник Георгия Раевского «Новые стихотворения», в котором поэт ищет разрешения всех мук и тревог в пантеистической примиренности.
У Раевского негромкий и несколько однообразный голос, его попытки расширить основную тему не всегда удачны, но стихотворения его подкупают чистотой тембра, благородством тона и прозрачной, порою чуть наивной ясностью. Это скромная «камерная» поэзия, идущая из глубины и обладающая зачастую подлинными песенными достоинствами.
Раевский тяготеет к поэзии «мирового дыхания», его учителями были Гете и Тютчев, а в формальном отношении германские романтики и поэты пушкинской плеяды. Но основной мотив сборника — элегия Жуковского, и преобладают в нем две темы: идиллия лирического пейзажа и умиленное приятие мудрого закона бытия.
Раевский подчеркивает, что «все благо» в высоком строе мира, в мощном и таинственном круговороте, в который входит и шкурка мертвого крота, над которой размышляет поэт, и волшебные видения искусства. Смерть роднит человека с землей, все устроено «мудро и дивно, мгла и холод, и свет и тепло». Мудрость Раевский открывает в простых радостях земли, в малом, почти домашнем, и в описаниях его постоянны образы бабочки, лепестка, цветка, вообще, микрокосм. Он больше любуется синевой небес, если она отражается в капле воды, а не в широкой глади моря. Малое умиляет его, отвечает его тяге к благости, к растворению в природе. Рассвет на полях, тишина заката — внутренне связаны с его мироощущением; оттого же у него «белый дым зимы» и неизменная «прохладная осень с паутинками».
В «медитациях», к которым он весьма склонен, порою излишне подчеркивая их несложный и слишком явный символизм, Раевский проповедует «смиренномудрие». Это опять-таки философия «умной простоты», «холодной и прекрасной синевы», откуда тишина нисходит к измученным сынам земли (и слово, и образ «тишины» все время повторяется в книжке). Она связана у Раевского с «высокими темами» религиозного восприятия жизни. Нет сомнения, что он стремится к «религиозному просветлению» и к мистической настроенности, но в этой области у него гораздо больше желаний, чем достижений. В его стихах на религиозные темы — библейские и христианские — опять-таки преобладает идиллия деревенского храма и сельского кладбища. В лучшем случае — это суховатый символизм «блудного сына», русской соборности и апостольских времен. Явно подражательны пьесы, повторяющие тютчевское «так отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник».
Читать дальше