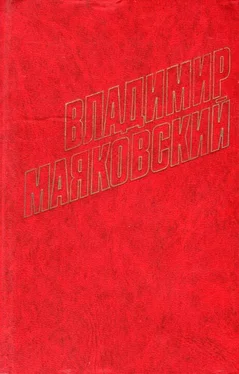Владимир Маяковский
ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
8 ЧАСТЕЙ
ПРИКАЗ № 3
Прочесть по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов.
Где еще
— разве что в Туле? —
позволительно становиться на поэтические ходули?!
Провинциям это!..
«Ах, как поэтично…
как возвышенно…
Ах!»
Я двадцать лет не ходил в церковь.
И впредь бывать не буду ни в каких церквах.
Громили Василия Блаженного.
Я не стал теряться.
Радостный,
вышел на пушечный зов.
Мне ль
вычеканивать венчики аллитераций
богу поэзии с о́бразами образо́в.
Поэзия — это сиди и над розой ной…
Для меня
невыносима мысль,
что роза выдумана не мной.
Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.
Надсо́ны,
не в ревность
над вашим сонмом
эта
моя
словостройка взвеена.
Я стать хочу
в ряды Эдисонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам.
Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами до́сыта.
Ныне —
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —
фразами учебника Марго.
Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.
К болтовне поэтической я слишком привык, —
я еще говорю стихом, а не напрямик.
Но если
я говорю:
«А!» —
это «а»
атакующему человечеству труба.
Если я говорю:
«Б!» —
это новая бомба в человеческой борьбе.
Я знаю точно — что такое поэзия. Здесь описываются мною интереснейшие события, раскрывшие мне глаза. Моя логика неоспорима. Моя математика непогрешима.
Внимание!
Начинаю.
Аксиома:
Все люди имеют шею.
Задача:
Как поэту пользоваться ею?
Решение:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
Фундамент есть.
Начало благополучно.
По сравнению с Гершензоном даже получается научно.
Я и начал!
С настойчивостью Леонардо да Винчевою,
закручу,
раскручу
и опять довинчиваю.
(Не думаю,
но возможно,
что это
немного
похоже даже на самоусовершенствование иога.)
Постепенно,
практикуясь и тужась,
я шею так завинтил,
что просто ужас.
В том, что я сказал,
причина коренится,
почему не нужна мне никакая заграница.
Ехать в духоте,
трястись,
не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялиться?!
Да я его и из Пушкина вижу,
как свои
пять пальцев.
Мой способ дешевый и простой:
руки в карманы заложил и стой.
Вставши,
мысленно себя вытягивай за́ уши.
Так
через год
я
мог
шею свободно раскручивать на вершок.
Прохожие развозмущались.
Потом привыкли.
Наконец,
и смеяться перестали даже —
мало ли, мол, какие у футуристов бывают блажи.
А с течением времени
пользоваться даже стали —
при указании дороги.
«Идите прямо,—
тут еще стоят такие большие-большие ноги.
Ноги пройдете, и сворачивать пора —
направо станция,
налево Акулова гора».
Этой вот удивительной работой я был занят чрезвычайно долгое время.
Я дней не считал.
И считать на что вам!
Отмечу лишь:
сквозь еловую хвою,
года отшумевши с лесом мачтовым,
леса перерос и восстал головою.
Какой я к этому времени —
даже определить не берусь.
Человек не человек,
а так —
людогусь.
Как только голова поднялась над лесами, обозреваю окрестность.
Такую окрестность и обозреть лестно.
Вы бывали в Пушкине (Ярославская ж. д.) так в 1925–30 году? Были болота. Пахалось невесть чем. Крыши — дыры. Народ крошечный. А теперь!
В красных,
в зеленых крышах сёла!
Тракторы!
Сухо!
Крестьянин веселый!
У станции десятки линий.
Как только не путаются —
не вмещает ум.
Станция помножилась на 10 — минимум.
«Серьезно» —
поздно
является.
Молодость — известное дело — забавляется.
Нагибаюсь.
Глядя на рельсовый путь,
в трубу паровозу б сверху подуть.
Дамы мимо.
Дым им!
Дамы от дыма.
За дамами дым.
Дамы в пыль!
Дамы по луже.
Бегут.
Расфыркались.
Насморк верблюжий.
Пушкино размельчилось.
Исчезло, канув.
Шея растягивается
— пожарная лестница —
голова
уже́
разве что одному Ивану
Великому
Ровесница.
Это, я вам доложу, — зрелище. Дома́. Дома необыкновенных величин и красот.
Помните,
дом Нирензее
стоял,
над лачугами крышищу взвеивая?
Так вот:
теперь
под гигантами
грибочком
эта самая крыша Нирензеевая.
Читать дальше