из облаков над Тибром. А все же тот, кто
нашептывает утешенья, не прав. Утраты
так беспощадны, так тихо время
день за днем отламывает от жизни,
так не сбылись надежды, так все, что было,
было не так… А вот стоишь здесь,
на Авентинском холме, где возле
церкви — мандариновый сад, в котором
на узколиственных ветках каждый
мандарин — неожиданность, и бродячие,
вдруг неподвижные кошки вместе
с тобою смотрят на город, снежный
очерк над городом, — вот стоишь здесь,
ни о чем не спрашивая, потому ли
что спрашивать некого, не с кого, или, может
быть, незачем. Сходя с дарами, почти незримый,
ангел ступает по крышам, кронам
пиний, едва касаясь их, в чистом свете.
Все печально, говорил принц Гэндзи, и даже
эти прозрачные листья, эта белая, розовая
россыпь веток. Потому что весна говорит мне
об осени, о течении времени, потому что
цветы облетят и листья увянут. Монах же думал
о том, что лежит за словами, которые
он мог бы сказать в утешенье, которых
он потому и не сказал в утешенье, о том, что
за всеми словами и мыслями, листьями, ветками,
лежит или, может быть, думал он, движется,
как и мы, приближаясь, скользя, проплывая
сквозь распахнутый светом ландшафт, где цепочки
деревьев разбегаются по косогорам, и легкое
облако взлетает над колокольней, холмы
исчезают в сверкающей поволоке. Машины
не поспевали за поездом, в окнах через
проход, куда вывозили уже на колесиках
чемоданы, выносили сумки, был город,
большие башни на солнечном горизонте.
26 апреля 2005
«В зеркало видишь женщину…»
В зеркало видишь женщину за рулем
фольксвагена, с освещенным и грубым
подбородком, исчезающими в тени
глазами. Приближаешься к светофору,
нажимаешь на газ, на тормоз. Громады
облаков восстают друг на друга над белой
и плоской фабрикой, автомобильными
мастерскими, некошеною лужайкой, где тоже
белые (уже) одуванчики убегают, еще не
облетая, неизвестно куда, по блестящей,
как вода на солнце, траве. Мгновенье
твоей жизни, одно из единственных.
Ты входишь в него, как в чьем-то
рассказе мальчик, вошедший в картину,
не возвратившийся. Оно длится, растягиваясь,
границы его отступают. Оно больше
(ты знаешь) облаков и времени. Ты
в нем дома. Вдруг женщина улыбается
и машет рукой кому-то на улице, вот
этому, в джинсах, тот кивает ей, светофор
зеленеет, все едет, все движется,
заканчивается, закончилось. Радио
продолжает свой рассказ о погоде,
дорожных пробках, парламентских выборах.
Не заканчивается (говорил мне один мой
не возвратившийся из картины знакомый)
ничего, никогда.
6 июня 2005
Перевалив через велосипедную —
между озером и полем — дорожку,
огромный лебедь с беззвучной
яростью набрасывается на низкие
светлые колосья пшеницы, вытягивая,
выгибая, выкручивая дрожащую
шею, то сверху, то снизу, и справа,
и слева подбираясь к зернам. Колосья,
наклоняясь вперед, отгибаясь
назад, выпрямляясь, с беззвучной
тоже, но не яростью — легкостью,
ударяют его по клюву. Он один, он
ужасен. Это все враги его, все
это поле. Он рвет, и тянет, и дергает.
Что руно ему, что Медея? Сияющие,
той же масти, что и он, облака
стоят над ним неподвижно. Старик
с лохматой собакой старается,
волоча сандалии на синих ногах,
пройти поскорее. Собака не лает,
оглядывается, не лает. (В каком-то
месте мира — мгновение жизни.
Свет и время, стоящие вокруг нас.
Воскресенье, озеро, очень дальние
голоса, ниоткуда). Вдруг вспомнив
что-то, он шлепает к берегу,
заносит ногу, шатается, падает
в воду. Становится снова виденьем,
становится призраком, уплывает
сквозь чужие стихи, навсегда.
17 июля 2005
Сквозь шуршанье осени радио
говорило о землетрясеньях, о не —
счетных
несчастьях. А кто-то,
казалось нам, выбрал
для нас эту осень — из скольких
возможных? — вот эту! —
с ее полыхающими
шатрами на нескончаемом небе. «Любовь
тоже есть приближенье
к искомому, эти изгибы
есть изгибы дорог, эти руки — реки». Но радио
говорило по-прежнему (и в машине,
и на кухне за завтраком). Наконец,
мы нашли его, в глубине
осени, на
мусорном баке, у входа
в парк — забытое кем-нибудь? «Странность
жизни…» — с полувытянутой антенной. Уже не
шуршали, но всхлипывали
Читать дальше





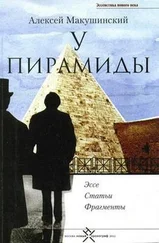

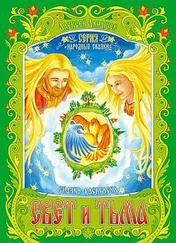
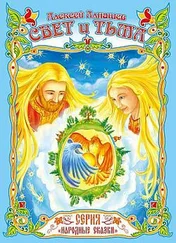

![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)

