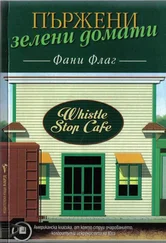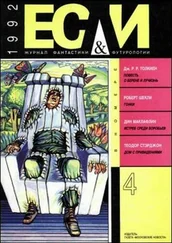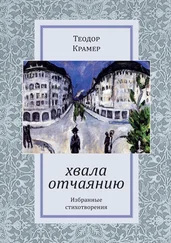Не знакомый мне до той поры,
источал он винные пары,
был пропитан духом винограда,
не ответил мне — чего, мол, надо:
сразу же и молча, не темня,
он вспахал, как заступом, меня.
Распахал и канул в темноту —
лишь остались простыни в поту.
Скоро стала я худа, как спица,
кожа тоже начала лупиться,
стало и слепому в феврале
ясно, что хожу натяжеле.
Снова зеленеет виноград,
иволги на персиках свистят.
Уж какая, да найдется хата
чтоб родить, — а так хожу, брюхата,
гордая, как будто предо мной
поклонились люди всей страной.
Ты — скотница, а я батрак,
в усадьбу нанялись одну.
Ты — от загона ни на шаг,
я — лямку на жаре тяну.
Хозяин с вечера залег
смотреть в перинах сны.
Тебе постелью — сена клок
и две доски даны.
Вот-вот начнется опорос,
уже коровы стельны сплошь.
Работа наша — на износ,
откуда ночью сил возьмешь?
Хозяйкин захворал малыш —
так вопль на всю семью,
а если ты подзалетишь —
заваришь спорынью.
Черны от мух судки в жиру,
доходят хлебы на поду.
Я два букета соберу
и от тебя ответа жду:
давай решай — возьми один
и прочь другой откинь.
В одном — душистый розмарин,
в другом — горька полынь.
Душный воздух плывет от карнизов и ниш,
утопают во мраке края балюстрад,
дребезжат фонари, разбивается тишь,
и кусты у скамейки упрямо шуршат,
и всё реже слышны поездов голоса,
и на горькую пыль выпадает роса.
Разветвляется луч, и скамейка пуста.
Каблуки глубоко утопают в песке.
Приходи — нас обоих зальет темнота,
я смогу прикоснуться к любимой руке.
Куст жасмина кивает, безлюдно вокруг,
и жужжит среди веток невидимый жук.
Это наши часы — и простор, и покой, —
не такие, как дома, где шум суеты.
Стрекотаньем цикад, словно пеной морской,
переполнены травы, кусты и цветы.
Духота от железной дороги ползет,
но прохладой ночной дышит лиственный свод.
Над предместьем, над парком в полуночный час,
словно колокол, виснет ночной небосвод.
Как случайно, как хрупко связавшее нас —
то, что нас отрывает от дел и забот, —
но скамейка, что в темной аллее видна,
и сегодня, и завтра нам будет верна.
От света и зноя земля горяча,
трещат, рассыхаясь, скамьи,
и ветер, желтеющий дерн щекоча,
проходит сквозь пальцы мои.
Итак, это, стало быть, день выходной
для тех, кто ничтожен и нищ.
Стучатся в ограду волна за волной
шум улиц и гомон жилищ.
Размеренно кружатся тучки вдали,
листва выгорает дотла.
С акаций летят лепестки и в пыли
блестят, словно капли стекла.
И кажется — голос шарманки возник
в неспешном кружении дня,
вином и коврижкой лаская язык,
кружа и листву, и меня.
Шарманка незримая, ты наяву
из пыли поешь мне, и впредь
позволь позабыть, что на свете живу,
и ручку твою завертеть.
С зубцами незримого вала сцепясь,
комод и корзина с бельем
поют, образуя высокую связь
с набивкой в матрасе моем.
Так будем щедры… Пусть всю жизнь напролет
зазубренный крутится вал!
И вот паровозный свисток запоет,
трава зашумит возле шпал,
уронит замазку рассохшийся паз,
и вся эта пыль вразнобой
посыплется в песню, и слезы из глаз
покатятся сами собой.
Возле джутовой фабрики, в полдень, вдвоем
прилегли на горячий песок.
В зное летнего дня утопал окоем
и поблескивал женский висок.
Пыль мешков и пеньковых волокон насквозь
пропитала и горло, и грудь,
и с растресканных губ им не раз довелось
каплю собственной крови слизнуть.
Так лежали, макая свой хлеб в молоко,
колотье унимая в груди.
Шелестящая осень была далеко,
и одна лишь теплынь впереди.
Шелушился загар, и густым, словно сок,
воздух был в эти летние дни,
и о доме, что стал бесконечно далек,
говорили впервые они.
И в полуденный зной были чувства чисты,
становились всё мягче слова.
На бегониях красных не сохли цветы
и еще зеленела трава.
Беспредельная щедрость являлась во всем,
и жарой исходил небосклон, —
так лежали у фабрики в полдень, вдвоем,
слыша долгую песнь веретен.
Что ни вечер — гость у нас в дому:
хочет мать понравиться ему,
красится, потом зовет к столу, —
гость на главном месте, я в углу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу