Если для многих главное действующее лицо ритуала — человек, совсем не похожий на нас, дикарь или невротик, то для других он вообще не человек, но институция, самая суть священного. Будучи совокупностью общественных форм, священное становится объектом. Ритуалы, мифы, празднества, легенды — все то, что называют удачно найденным словом «материал», — вот оно здесь, перед нами: это объекты, вещи. Юбер и Мосс {113} считают, что чувства и переживания верующего перед лицом священного не представляют собой ничего необычного. Человек не меняется, и человеческая природа — всегда одна и та же: любовь, ненависть, страхи, опасения, голод, жажда. Что изменяется, так это общественные установления. Мне это мнение кажется не соответствующим действительности. Человек неотделим от своих созданий и вещей, которые его окружают. Если совокупность установлений, образующих универсум священного, действительно является чем-то замкнутым и неповторимым, подлинным универсумом, то тот, кто принимает участие в празднестве или ритуале, отличается от того, кем он был несколькими часами ранее, когда охотился в лесу или вел автомобиль. Человек никогда не равен самому себе. Его способ быть, то, что отличает его от прочих живых существ, — это изменяемость. Или, как говорит Ортега-и-Гассет, человек — существо несубстанциальное {114} , лишенное субстанции. А самое характерное в религиозном опыте — это как раз резкий перепад, ослепительное преображение собственной природы. И стало быть, неверно, что чувства, которые мы испытываем при виде настоящего тигра и тигра-божества, эротического эстампа и тибетских тантрических изображений, — те же самые.
Общественные установления — это не священное, не священны ни «архаическое мышление», ни невроз. Оба подхода страдают одним и тем же недостатком, они превращают священное в объект. Следовательно, надо избежать обеих крайностей и схватить явление как целостность, которой мы сами причастны. Нельзя отделять деяния от действующих лиц, ни vice versa. Нельзя считать удачной и попытку описать опыт священного как что-то внешнее. Этот опыт включает и нас самих, и его списывание становится описанием самих себя [31].
Некоторые социологи начинают с того, что делят общество на два полярных мира: один — мир профанного, другой — сакрального. Тогда табу — это что-то вроде межи между ними обоими. В одном возможны вещи, запрещенные в другом. Отсюда и произрастают такие понятия, как чистота и святотатство. Правда, как было сказано, такое формальное описание, не включающее нас самих, снабжает нас всего лишь какими-то сведениями. Кроме того, всякое общество поделено на самые разные сферы. И в каждой из них действует своя система норм и запретов, не приложимая к другим. Правила наследования неприменимы в области уголовного права (хотя когда-то это было не так); такие предполагаемые этикетом акты, как дарение, оказываются неприемлемыми, если практикуются в административной среде; нормы международных отношений неприложимы к отношениям семейным, нормы семейной жизни — к международной торговле. В каждой сфере все происходит как-то по-своему, «особым образом». Итак, нам предстоит проникнуть в мир сакрального, чтобы посмотреть, что именно и «каким образом» там происходит, и прежде всего — что там происходит с нами самими.
Но если священное — это особый мир, то как нам туда попасть? С помощью того, что Кьеркегор называет «скачком», а мы, на итальянский манер, назовем сальто-мортале. Хуэй Нэн, китайский патриарх VII века {115} , так объясняет самое главное в опыте буддизма: «Махапрадж-няпарамита — это санскритский термин, пришедший с Запада. На языке Чань он означает „великая премудрость на другом берегу потока“… Что такое Маха? Маха — это великая… Что такое Праджня? Праджня — это премудрость… Что такое Парамита? — По ту сторону потока… Прилепляться к миру вещей — это участвовать в круговращении жизни и смерти, это значит уподобиться вздымающимся и опускающимся морским волнам, и это значит пребывать на Этом берегу… Когда мы отлепляемся от мира вещей, уходят и жизнь и смерть, а остается только непрестанное струение вод, и это называется Другой берег» [32].
Во многих сутрах Праджняпарамиты под конец становится доминирующей идея путешествия или скачка: «О, ушедший, ушедший, ушедший на другой берег, повергшийся на том берегу». Немногим удается этот скачок, несмотря на то что крещение, причастие, другие таинства или обряды инициации, то есть перехода в другое состояние, как раз и готовят нас к такому опыту. Общее в них то, что они изменяют нас, делая «другими». Потому-то в них мы получаем новое имя, указывающее, что мы — уже иные, мы только что родились или возродились. Ритуал воспроизводит мистический опыт «другого берега» в качестве капитального события человеческой жизни — когда мы рождаемся, зародыша больше нет. И разве самые важные и значительные события нашей жизни не суть повторение этой смерти зародыша, возрождающегося в младенце? Итак, сальто-мортале, или опыт «другого берега», предполагает изменение состояния: смерть и рождение. Но «другой берег» располагается в нас самих. Мы застыли, но ощущаем, как нас уносит великим ветром, который нас опустошает. Он выносит нас из нас и в то же самое время подталкивает к самим себе. Образ вихря присутствует во всех великих религиозных текстах: человека вырывает с корнями, как дерево, и забрасывает туда, на другой берег, навстречу самому себе. И вот на что следует обратить внимание: наша воля в этом почти никакого участия не принимает, а если и принимает, то как-то странно. Если тебя уносит великим ветром, что толку ему сопротивляться. И напротив, все твои заслуги и пылкие молитвы ни к чему не ведут, если не вмешается посторонняя сила. Воля и неведомые силы сплетаются в тугой узел, — точно так, как это происходит в поэтическом творчестве. В человеке встречаются рок и свобода. Испанский театр дает нам немало примеров такого конфликта.
Читать дальше

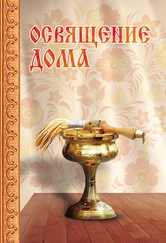






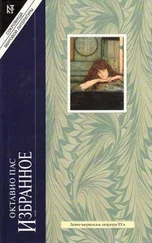

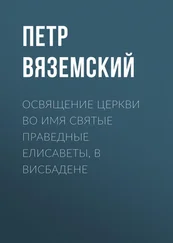
![Иван Шаман - Освящение [СИ]](/books/406691/ivan-shaman-osvyachenie-si-thumb.webp)