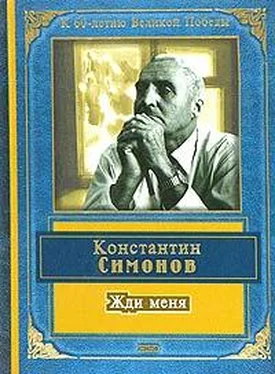Потом написал он плечи: расправь их – упрутся в тучи,
Согни их втрое – не спрячешь. И ото всей души
Черный бормочет: «Лучше, еще два мазочка, лучше,
Пиши, дорогой, пиши!»
А в сущности он взволнован уже не самим портретом,
Портрет в его представленье почти висит на стене.
«И где он будет повешен, и скоро ли будет это,
Вот, дорогой художник, что интересно мне!»
Як Якыч ему методично ответил по каждому пункту:
Что повесят, что скоро, что в клубе, что это факт.
И Черный пошел, довольный, в клубный театр лагпункта,
Где только что все затихло и начался третий акт.
Главный герой на сцене в роль вошел моментально,
Воры с неподдельным чувством играли себя самих.
Автор, как все блатные, немножко сентиментальный,
Умел добраться до сердца таких же, как он, блатных.
Герой, под влияньем любимой бросивший блат навеки,
Работает на заводе, где она секретарь.
Злодей – кулацкий сыночек – крадет бумаги и чеки,
С расчетом, что бывшего вора заподозрят, как встарь.
Зал обижен за вора, в зале не дышат даже...
Герой, ничего не зная, приводит своих корешков,
Он им рекомендует тотчас же бросить кражи
И, по его примеру, честно встать у станков.
Но герой заподозрен. Приезжает угрозыск.
Герою с его друзьями грозит арест и тюрьма.
Друзья при виде агентов кричат герою с угрозой:
«Ты нас завел в ловушку!» – а в зале сходят с ума.
В зале столпотворенье достигает предела,
Иоська вскочив со стула, кричит герою: «Скажись,
Скажись им, Коля, в чем дело!» И тот говорит, в чем дело,
И приходит развязка и счастливая жизнь.
В зале вздох облегченья, в зале – за добродетель:
Пускай у слепой фортуны не плутуют весы!
Зал заметно растроган, воры рыдают, как дети,
И нежные девичьи слезы капают на усы.
Тяжкий запах добра смешан с вонью эфира.
Мир завешен гардиной, и прочная мгла
От сотворенья мира
Стоит в четырех углах.
Оно создавалось не сразу, надежное здешнее счастье.
Оно начиналось с дощечки: «Прием с двух до десяти».
Здесь продавалась помощь, рознятая на части:
От висмута – до сальварсана
От целкового – до десяти.
И люди дурно болели, и дом обрастал вещами.
Он распухал, как лягушка, опившаяся водой.
Скрипела кровать ночами,
И между обедом и чаем
В новый рояль, скучая,
Стучали по среднему «до».
Так с большими трудами, с помощью провиденья
Была создана симметрия, прочный семейный квадрат.
Здесь вещи стоили денег
И дети стоили денег,
Не считая моральных затрат.
Над городом грохнула осень, но врач затворил окошко.
Приделал на дверь четыре давно припасенных замка.
Припрятал столовые ложки,
Котик сменил на кошку
И высморкался без платка.
Он брал за визиты натурой: шубами и часами,
Старыми орденами, воблою и мукой,
Он прятал и ел глазами,
И умные вещи сами
Ластились под рукой.
Он долго жил как властитель,
Он хвастал, что сто миллионов
Войн и переворотов
Дверь не откроют в дом.
Сын станет опорой трона,
А дочь...
Но гадкий утенок,
Чтоб он, не родившись, сдох!
Так часто бывает: в доме,
Пропахшем столетним хламом,
Растет молчаливый ребенок,
Чуждый отцовской лжи.
Девчонка рвалась из дома
И бредила океаном.
Ей племя пыльных диванов
Мешало дышать и жить.
Она подросла и стала девушкой первого сорта.
А мир изменился – грохочут дальние поезда,
Она решила уехать,
Понюхать соленого пота,
Лучше куда угодно,
Чем обратно – сюда!
Отец обругал наше время,
Отец был кряжистым дубом.
Он проклял меня, который дал руку ей, чтоб уйти.
Он даже попробовал спорить,
Но я показал ему зубы.
Он съежился
И пропустил.
Так я с собой на север привез хорошего друга.
Мы спали на жестких досках
И ели неважный хлеб.
Да, жить приходилось туго,
Паршивый, холодный угол.
Но мы сговорились друг с другом,
Что счастье не в барахле.
Она училась работать, молча и спотыкаясь,
Упрямая, как ребенок, пробующий ходить.
Девчонка так исхудала, что, взяв большими руками
Ее, как больную птицу,
Я согревал на груди.
Я начал видеть всю правду,
Да видно, что поздно начал.
Ей с детства кутали шейку,
А здесь мороз и вода,
Я знал, что девчонка плачет,
Но я не видал, как плачет,
А это не значит – плачет,
Раз никто не видал.
Я почернел от горя, когда она умирала.
Я проклял себя, который взял и не уберег.
Эх, если бы смерть как взятку
Мои потроха забрала,
Я б сунул ей взятку в зубы —
Черт с ней, пускай берет!
И вот я стоял, как наследник,
Над худеньким мертвым телом,
Я мог говорить с собою и мог кричать в потолок,
Я мог, наконец, как собака (кому до этого дело?),
Страшно завыть по хозяйке,
Скорчившись под столом...
На память остались вещи.
Но я вещей не боялся.
Кто сиротел – тот знает, как можно с вещами дружить.
Я ушел из поселка
И долго работал и шлялся,
Каждый по-своему лечит свою захворавшую жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу