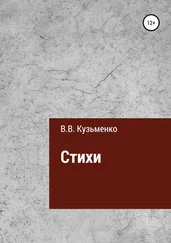Я слышал о Владимире Ягличиче как об известном переводчике русской литературы. Познакомившись с его собственным творчеством, был поражен глубинною мощью этих стихов, их бескорыстием и самоотверженностью. Надеюсь, что появление этой маленькой подборки заинтересует российского читателя.
Классик. Читать — как больному
Принимать лекарство, словно смотреть
На стены собственной обжитой комнаты, или,
наоборот —
На город на карте, в котором меня не ждут,
Но где могло бы и для меня отыскаться
Немного тепла. Облик — чуть ли не бога,
борода циклопа,
Взгляд, связывающий моря и пространства.
Тоскующий по древнему, безымянному,
Взвившемуся из буйной пены,
Чтоб всей силою поразить человека
В лобную кость. Дух ли это?
Или просто крестьянское тело?
Есть в этом облике что-то от бескрайнего моря,
От суденышка, где только тонкие переборки
Отделяют от смерти, от тех отдаленных полей,
Где души наши пылают, где мы поднялись из травы,
Словно дети — для первого поцелуя.
Да, это мы, дети стонов и ран, поражаемся,
как же вышло,
Что мы до сих пор уцелели.
Нет глубже океана, чем людская
Слеза — и если не погибнешь в нем,
То не найдешь земли обетованной.
Все великое — совершено, все ценное — продано,
Куда дороже твоей квартиры, дороже Версаля,
дороже
Родины, и планеты, и века.
А достоинство — вроде бы нет, да и какой валютой
оплатить игрушки, отжившие свой
век, течение довоенной реки, лес в обмороке
и снегиря,
чей горловой клекот по цвету напоминает небо.
Итак, остается бездонный горизонт, и этот
глупый снегирь, тщетная муза,
ненависть к самому себе.
Поглядим в будущее, пока глядится, убежим
от него, превратимся в царьков
родного села, с липовых тронов будем
восхищаться неоновыми городами. Вечер,
вечер, родное время, фонарь в подземелье,
в которое ты, посторонний, вплетен так крепко,
словно тростинка в корзину. Птица в ветвях
вздрагивает от рева мотора. И ты исчезаешь,
улетаешь к синему своду, который днем — дым,
а ночью — огненный кратер, читай — страшный
и неведомый, и невидимый путь.
Какой там Босх! Доносятся с экрана
(лица дракона) бойкие гримасы
безумных зазывал, журчание низвергнутых в Аид
рек, и шуршат колосья в пятнах спорыньи.
Лицо без тела. Мысли ниоткуда,
Обочина дороги в никуда.
Кто я? кто ты? Участники массовки
Без права голоса? Прекрасен зомбоящик,
И хороши катоды-электроды.
Которым я завидую, страшась
ночную душу им отдать на растерзание.
А все ж, как все, едва ль не всякий вечер
Бессмысленно смотрю ему в глаза
Лукавые, не упуская шанса
Усвоить новости,
а после их расставить по порядку
и чистить, словно инуит — гарпун,
выдранный из голубого кита после битвы.
Ах ящик мой, приемыш, обокравший
Семью, надутый, как пузырь акулы!
Ты знаешь правду, только не мою,
И по квартирам, запертым на лазерный
Замок, буришь пронзительные шахты
В доверчивом, но сером веществе.
Ты — новый мир, мы о тебе мечтали,
И я тебя, признаться, ненавижу.
«Ничего-то мне больше не помнится…»
Ничего-то мне больше не помнится,
да и жив ночами едва.
Спит в потертой холщовой зобнице [1] Зобница — торба для овса, из которой кормят лошадей. В такой зобнице князь Милош Обренович в 1817 г. послал голову вождя сербских повстанцев Карагеоргиевича белградскому паше в знак верности турецкому султану. (Прим. автора.)
моя мертвая голова.
Сладко спит. Как дитя, как невеста
после брачной ночи, пока
жизнь, воинственна и бесчестна,
продолжается. Так легка
эта участь! Спи, русая, между
мирами, и не теряй надежду —
все пройдет, как испуганная слеза
вассала. Тогда и открой глаза.
Зобница — торба для овса, из которой кормят лошадей. В такой зобнице князь Милош Обренович в 1817 г. послал голову вождя сербских повстанцев Карагеоргиевича белградскому паше в знак верности турецкому султану. (Прим. автора.)