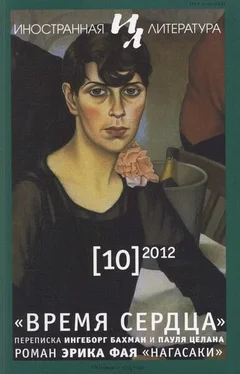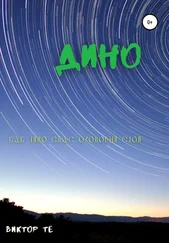Не знаю, иль в скалах явился мне твой неясный лик,
или в улыбке из неоглядной дали,
в склоненном челе, светлее слоновой кости,
о, меньшая сестра Джиоконды,
о, в смутном свечении древней легенды,
вёсен угасших Царица, Царица-подросток.
Но ради песни твоей несказанной,
наслажденья и боли — сколько музыки,
девочка бледная,
в округлости губ, тонко означенных линией алой,
о, Царица мелодии, — ради еле заметного
девственной шеи твоей наклона,
в просторах небесного океана,
ночной поэт, я следил бессонно
созвездий плывущие караваны.
Да, ради этой сладостной тайны,
ради безмолвного твоего становленья…
Не знаю, его ли было живым знаменьем
этих волос золотистое пламя.
Не знаю, была ль эта легкая дымка
легкой, над болью моею, улыбкой
лица из мглы отдаленных веков…
Вижу горы немые — белые гнезда ветров,
и неподвижного неба суровые своды,
и реки, что покорно влекут многослезные воды,
и согбенные тени людского труда,
и эти холодные склоны…
И снова по краю небес пробежали светлые тени,
и снова ищу тебя, и снова тебя призываю, Виденье…
Сумерки гаснут.
Духи смятенны. Пусть будет легка темнота
Сердцу, что больше не любит!
Струи, струи мы слушать должны;
Струи, струи, что они знают?
Струи всё знают, всё знают они,
Что слышат духи, внимая…
Слышишь, сумерки гаснут,
А духам смятенным легка темнота.
Слышишь: тебя победила Судьба.
Но легким сердцам открывается новая жизнь за по —
следнею дверью.
Нет сладости той, что может сравниться со Смертью.
Шажок Шажок Шажок
Слушай ту, что качает тебя, как в колыбели, слушай,
Слушай милую девочку, слушай
Ту, что ласково шепчет на ушко:
«Шажок, Шажок»
Сейчас, чтобы уйти, он поднимется по ступеням.
Сейчас — как свежо ветер морскою прохладою веет…
Сейчас так отчетливо отбивает мгновенья
Сердце, что больше других любило.
Гляди: вот уж совсем стемнело.
На склонах деревья стоят молчаливо.
И катятся воды неторопливо.
Пум! Мама, тот человек упал!
(Болонья )
Старый город ученых и священников заволакивало туманом декабрьского полудня. Холмы просвечивали вдали над равниной, пересекаемой шумными порывами ветра. Над железнодорожными путями была различима, будто вблизи, в ложной перспективе свинцового света, товарная станция. Вдоль линии окружной дороги кичливо проплывали смутные женские фигуры, укутанные в меха, с романтично-пышными волосами, приближаясь дробным, словно автоматическим, шажком, в своих пухлых горжетках похожие на птиц с деревенского двора. Глухие удары и станционные свистки только подчеркивали разлитую в воздухе монотонность. Дым паровозов мешался с туманом; провода висли, висли гроздьями на изоляторах телеграфных столбов, уходивших в туман монотонно.
В выщербинах красных, разъеденных туманом стен открываются молчаливо длинные улицы. Гадкий пар тумана расползается между зданий, заволакивая верхи башен, длинные молчаливые улицы — пустые, будто после разграбления. Фигурки девушек, все мелкие, все темные, с вычурно повязанными шарфами, подскакивающим шажком пересекают улицы, оставляя их еще более пустыми. В кошмаре тумана, посреди этого кладбища, они кажутся чем-то похожи на мелких зверьков: совершенно одинаковые, подскакивающие, черные, они таят под долгой спячкой свой колдовской дурман.
* * *
Стайки студенток под портиками [7] Особенностью застройки в Болонье является обилие портиков — длинных галерей под вторыми этажами зданий. Эти галереи тянутся вдоль жилых, деловых, торговых кварталов, вдоль старинных корпусов университета, переходя одна в другую. Общая длина портиков Болоньи достигает 40 км. Монотонный ритм колонн, арок, постоянно затененных сводов, в сочетании с монотонным ритмом шагов по каменным плитам тротуаров, создает ощущение призрачности и в то же время предопределенности любого движения. Стиль Кампаны, с его постоянными, почти навязчивыми повторениями, чутко откликается на странную музыку архитектуры этого города. (Здесь и далее — прим. перев.)
. Сразу видно, что мы в центре культуры. Поглядывают с невинностью Офелий, стоя группками по три, разговаривая в ярком цветении своих губ. Они толпятся под портиками бледной и курьезной свитой современных граций, эти мои однокашницы, собравшиеся на лекцию. У них не увидишь деланых даннунцианских улыбок [8] Габриэле Д’Аннунцио слыл законодателем вкусов поколения; его героям — аморалистам в духе вульгарно прочитанного Ницше — было модно подражать.
, с клокотанием в горле, как у филологичек; они улыбаются редко и сдержанно, осмотрительно, не разжимая рта, никогда не давая ясного прогноза, эти наши естественницы.
Читать дальше