Одна за другой вагонетки с породой
Бегут и бегут на-гора без конца.
Все тверже, все крепче бетонные своды,
И жестче становятся крылья птенца.
Проходку ведем по далеким столетьям:
То речка возникнет, зловеще журча,
То мертвый тайник на пути своем встретим,
То череп, то цепь, то обломок меча.
Глубины московской земли непокорны,
Они отступать не желают, грозя
Обвалом, и взрывом, и гибелью черной.
Крепленья трещат, но сдаваться нельзя.
В забое четыре отчаянных друга.
Стучат молотки, словно сердце одно.
Порода навстречу вдруг выперла туго
И хлынула в лица. И стало темно.
Холодная жижа нам хлынула в лица,
И стало темно, и забой шевелится,
И слышно, как дышит подземное дно.
На нас навалилась тяжелая полночь.
Мы грудью своей зажимаем дыру
И слышим сквозь грохот, в холодном жару,
Как Леля вопит: «Погибаем! На помощь!»
От этого крика страшней почему-то.
Откуда здесь Леля, в кромешном аду?
Плывун нажимает упрямо и круто,
Еще полсекунды — и упаду.
Забой наполняется голосами,
А наш бригадир, все на свете кляня,
Хрипит: «Не волнуйтесь, мы справимся сами!»
И падает навзничь, сшибая меня.
Очнулись в здравпункте.
Как старый знакомый,
Термометры ставит нам доктор седой.
А мышцы разбиты горячей истомой,
И бронхи как будто налиты водой.
Наш добрый старик на минуточку вышел.
Тут, Славе шепнув: «Я пропал все равно», —
Встает, как лунатик, Алеша Акишин
И лезет на улицу через окно.
Собравши последние силы, он лезет,
Спускает ледащие ноги во двор.
Он прав! Пуще самых ужасных болезней
Я тоже боюсь докторов до сих пор.
Вновь доктор зашел, переменой испуган,
Термометры вынул и ставит опять.
«Не вижу я вашего юного друга,
Которого надо бы с шахты списать».
Кайтанов глядит на врача хитровато:
«Акишин? Он только что вышел куда-то!»
К нам шумы доносятся из коридора,
Шаги молотками стучатся в висок.
Обрывки взволнованного разговора
И дяди Сережи охрипший басок.
Мы слышим: «Их четверо было в забое».
«Все живы остались?»
«Как будто бы да».
«Поток плывуна заслонили собою.
Чуть-чуть не случилась большая беда.
Могли бы в Охотном дома обвалиться,
У старой земли гниловато нутро».
«Доверье бы к нам потеряла столица,
И так обыватель боится метро».
«А если бы хлынул плывун по туннелю,
Все заново рыть бы, наверно, пришлось».
«Тогда бы уж стройку не кончить в апреле».
«Ну, слава те господи, обошлось!»
«Так это ж герои!»
«Конечно, герои!
А сколько упорства и силы в таких!»
«Назавтра в „Ударнике Метростроя“
Должны напечатать заметку о них».
«К ним можно пройти?» — «Доктора запретили.
Ребятам изрядно помяло бока».
«А как там Акишин? Его отходили?
Он плох, вероятно?»
«Нет, дышит пока».
Шаги и слова осторожней и тише,
Но мы от сочувствия стали слабей.
А вам приходилось когда-нибудь слышать
За тонкой стеной разговор о себе?
Почувствуешь — сердце забилось и сжалось,
И разом нахлынут и гордость и жалость.
Но горе тому, кто услышит такое,
Что люди в лицо говорить не хотят.
И коль это правда, лишишься покоя.
Но что тут поделаешь? Сам виноват.
…Дощатые стены пропахли карболкой,
И дышится трудно, и хочется спать.
И доктор ворчит: «Тут одна комсомолка
Всю ночь к вам рвалась и стучится опять».
«Нельзя! Все начальство сейчас приходило
И то не пустили: врачи не велят».
«Пустите меня! Я жена бригадира,
А тот, что стихи сочиняет, мой брат».
Уфимцев ворочается на койке,
Он весь удивленье, святая душа:
«Ребята, я слышу там возгласы
Лельки! Ой, что она мелет? Не верьте ушам».
Кайтанов с улыбкою виноватой
Мне шепчет, пока сотрясается дверь:
«Не знаю, сумеешь ли стать ты ей братом,
Но мужем я, кажется, стану теперь».
Тут Лелька врывается: «Коленька, милый,
Ах, бедный мой, бедный! Спасибо, живой!»
И вдруг на колени она опустилась,
Зарылась в подушку к нему головой.
И, лоб его гладя, смеется и плачет,
А мы уже поняли, что это значит.
Кайтанов, поднявшись на локте упруго,
Еще побледнев, обращается к нам:
«Ребята! Знакомьтесь с моею супругой,
Прошу уважать! А любить буду сам»
Читать дальше
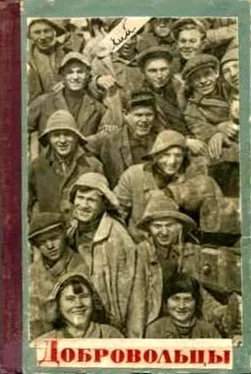

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)









