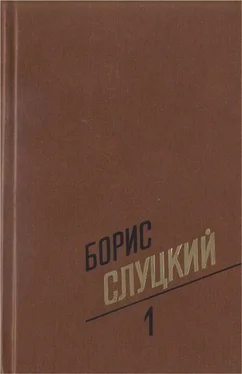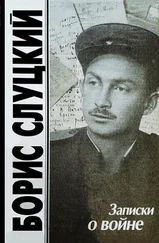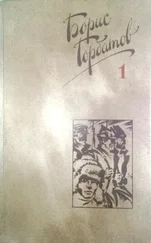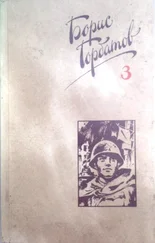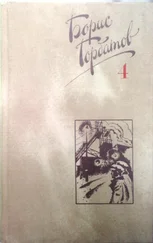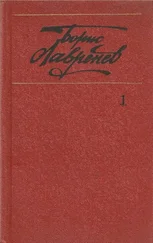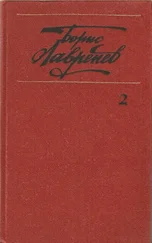Это возвращаются из плена,
Это покидают стариков
Скромные сокровища смиренных,
Сирые богатства бедняков.
Вся деревня привалила к стеклам
И глядит в окно, как в объектив —
Мутный-мутный,
Потный-потный,
Блеклый, —
Все равно — дыханье затаив.
Перед ней в неслыханном позоре,
Черные от головы до пят,
Черные, как инфузории,
Мертвые ростовщики лежат.
«Определю, едва взгляну…»
Определю, едва взгляну:
Росли и выросли в войну.
А если так, чего с них взять?
Конечно, взять с них нечего.
Средь грохота войны кузнечного
Девичьих криков не слыхать.
Былинки на стальном лугу
Растут особенно, по-своему.
Я рассказать еще могу,
Как походя их топчут воины:
За белой булки полкило,
За то, что любит крепко,
За просто так, за понесло
Как половодьем щепку.
Я в черные глаза смотрел
И в серые, и в карие,
А может, просто руки грел
На этой жалкой гари я?
Нет, я не грел холодных рук.
Они у меня горячие.
Я в самом деле верный друг,
И этого не прячу я.
Вам, горьким — всем, горючим — всем,
Вам, робким, кротким, тихим — всем
Я друг надолго, насовсем.
«Как залпы оббивают небо…»
Как залпы оббивают небо,
Так водка обжигает нёбо,
А звезды сыплются из глаз,
Как будто падают из тучи,
А гром, гремучий и летучий,
Звучит по-матерну меж нас.
Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
Мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.
Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
Все, что разбито, снесено.
Пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
За их труды мы пьем вино.
Еще мы пьем за жен законных,
Что ходят в юбочках суконных
Старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
И мировой пожар раздуем,
Чтобы на горе всем буржуям
Согрелась у огня жена.
За нашу горькую победу
Мы пьем с утра и до обеда
И снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
Нам горько, но и ей не сладко.
Ну, выпили?
Ну — спать пойдем…
Очередь стоит у сельской почты —
Длинная — без краю и межей.
Это — бабы получают то, что
За убитых следует мужей.
Вот она взяла, что ей положено.
Сунула за пазуху, пошла.
Перед нею дымными порошами
Стелется земля — белым-бела.
Одинокая, словно труба
На подворье, что дотла сгорело,
Руки отвердели от труда,
Голодуха изнурила тело.
Что же ты, солдатская вдова,
Мать солдата и сестра солдата, —
Что ты шепчешь? Может быть,
слова,
Что ему шептала ты когда-то?
Из парка вытащена вся война
В хранилища соседнего музея,
И я сижу на солнышке, глазея
На мирные, как в детстве, времена.
Как в детстве — так и в парке — нет мужчин,
А только бабы, женщины и дамы,
Которые и ходят здесь годами,
На что в музее множество причин.
Их спутники, мужья и женихи,
Фамилии тех спутников и лица
Не могут быть записаны в стихи —
Музей их раньше внес в свои таблицы.
А столбики бесстрастных диаграмм
Столбцов стиха — точнее и умнее.
Ни горечи, ни гордости музея
Я никогда стихом не передам.
«Дадите пальто без номера?..»
— Дадите пальто без номера?
Где-то забыл, по-видимому.
Или не взял, по-видимому,
Давайте, пока не выдали.
Давайте, покуда кто-нибудь
Мой номер еще не нашел.
Ищи потом его где-нибудь:
Схватил, надел и ушел.
— Какое ваше пальто?
Это? Вот это?
То?
— Да нет! Все это — пижонство —
Велюр! Коверкот! Шевиот!
Мое пальто — полужесткое,
Десятый годок живет!
— А цвет какой?
— Цвету медного.
— Сукно, какое сукно?
— Шинельное, полубессмертное,
Такое сукно оно…
— Не эта ли ваша шинель?
Вот та, что висит на стене?
— Да что вы на самом деле?
Ведь я лейтенантом был.
Солдатские эти шинели —
Ни в жизнь! никогда! — не носил.
Моя шинель офицерского
Покроя.
Сукна — венгерского,
Кофейного цвета сукна.
Такая шинель она!
Читать дальше