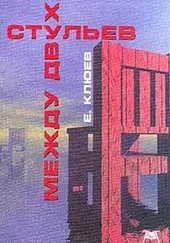Мне главное – их не забыть, а уж там, где я буду…
и даже, скорее, не так: где я буду таков,
я стану их клеить – на мебель, на дверь, на посуду,
я стану кормить ими бабочек и мотыльков,
я стану их класть между рамами и под подушку,
я стану заваривать в чай их – мне хватит с лихвой,
чтоб вылечить сердце, сосуды, простуды, одышку
и прочие хвори, и самую главную хворь.
А что там за хворь тебя мучает, старый зануда,
поймём уже после – отправившись, стало быть, в путь…
Тоска по тому, что уже не вернуть и не надо,
поскольку уже ничего никогда не вернуть.
9
Две алмазные слезинки
в две плетёные корзинки
я который день пакую —
и не ведаю покою,
а бумага, намокая,
снова дряблая такая,
будто тут не две слезинки,
будто дождик зарядил —
или в эти вот корзинки,
в перевернутый их купол,
не всего лишь кот наплакал,
а наплакал крокодил.
Я не буду в новой жизни
приближаться к старой бездне —
мне слезинки не за этим
и корзинки не за этим.
А зачем… да кто ж вам скажет?
Скажут: нажит – значит нажит
скарб, и каждую оплошность
до последней запятой,
как, вот, каждую слезинку,
надо паковать в корзинку,
чтобы старую жилплощадь
сдать счастливой и пустой.
10
А что-то остаётся на потом,
всё время остаётся на потом,
когда уже совсем покинут дом,
когда припоминается с трудом,
где тумбочка стояла, где кровать,
и больше нет желанья рифмовать
ни с чем на свете настоящий миг,
он сбился с ног, он наг и одинок,
и он стоит перед тобой как знак —
конечно, вопросительный, других
тебе не будет, разве что когда
ты всё уже забудешь и начнёшь
на новом месте что-нибудь ещё:
не жизнь – так пьеску, сказку, эпопе…
«И как-то не осталось вдруг размера…»
И как-то не осталось вдруг размера —
куда вписать оставшегося мира
и снег, и грех, и прах предновогодний,
развеиваемый над Родхусплбсен
кометами, ракетами… согласен,
так легче, и быстрее, и нарядней.
Вот разве только тактовик – нет, тоник,
нет, тоник не размер… тогда титаник —
нет, тоже не размер, хотя, конечно,
всё тут у нас размеры… разумеры,
а нб небе косматые химеры
воркуют оглушительно и нежно.
Так значит, разумеры: хочешь дольник,
или будильник, или понедельник —
так, чтобы вдруг проснуться по-другому,
как прежде никогда не просыпался:
на палец водки, сока на полпальца —
причём под музыку… желательно «Богему».
А в общем, пусть всё пляшет – или плачет,
как хочет, старый год идёт на вычет —
три, два, один – и дальше только Бог,
размеры кончились, возок летит по ямам,
но сердце продолжает биться ямбом:
раз-два, раз-два, второй ударный слог.
«Приходит, значит, новый вдруг…»
Приходит, значит, новый вдруг —
с вопросом, для чего я
линейкой измеряю звук…
«Взыграло речевое, —
я говорю, его кивок
встречая обалдело. —
Но вообще я так привык,
не Ваше дело.
А что я заперт в четырёх
стенах, так эту утку
пустил какой-то пустобрёх,
что очень-очень гадко, —
быть может, здесь вчера была
и за столом сидела
среди бумаг и барахла… —
не Ваше дело.
Ну, не сидела – так и что ж…
её приходы редки,
зато зашёл под вечер дождь —
Вы ведь читали сводки?
А вот о чём был разговор,
мы знаем только двое,
лишь он и я… и вот с тех пор
взыграло – речевое».
«Ты замри, моя жизнь, замри…»
Ты замри, моя жизнь, замри —
я замру, говорит, замру,
я замру до первой зари,
на ветру замру, на юру,
на бегу замру, на лету,
на снегу замру, стану лёд
и растаю, и в пустоту
превращусь, когда снег сойдёт!
И замрёт ведь, а я тогда —
рыбкой, стало быть, из пруда —
без труда напишу слова:
Копенгаген или Москва.
И не будет в них ни следа
Копенгагена и Москвы,
ибо всё это ерунда,
а пути ерунды кривы.
Но, конечно, настанет март —
это сразу за декабрём,
и тогда полетят за борт
вместе с разным другим старьём
все немые мои слова,
и взойдёт на дворе трава…
Отомрём еще, отомрём,
по тропе пойдём тропарём.
По причине отсутствия целей и средств отсутствия
я сижу на мели – с парой-тройкою слов, не боле,
но живу хорошо: вообще ничего не чувствуя,
кроме старой одной, отслужившей своё, любови.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу